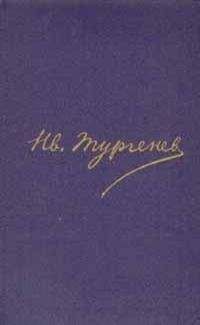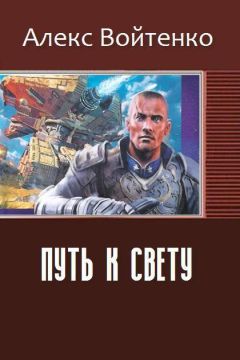Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
Впрочем, такая трактовка содержания третьего тома автобиографии удовлетворит, пожалуй, только читателя, придерживающегося традиционных семейных ценностей. Самому же Уэллсу собственная личная жизнь в целом представлялась вполне удачной, такой же, скорее всего, покажется она и тем, кто разделяет его либеральные взгляды на отношения полов. Уэллс пропагандирует контрацепцию и планирование семьи, идеи, тогда называвшиеся неомальтузианством. И мечтает о новой «формуле» истинно свободной любви — без ревности, без слез, без драм, без жертв…
* * *Что же касается других составляющих жизненной программы Уэллса — либерального социализма и Мирового государства, — то идея построения счастливого общества на земле заняла в его сознании место религии: «я хочу рассказать, как развивался мой разум, как постепенно возникал новый взгляд на мир, как плановая перестройка человеческих взаимоотношений в форме Мирового государства стала и целью, и поверкой моей деятельности, в той же мере, как Ислам — цель и поверка для мусульманина, а Царство Божие и спасение — для искреннего христианина» (с. 266 наст. изд.[166]). Уэллс называет себя человеком «религиозным» в том смысле, что он служит некой высшей идее и подчиняет свою жизнь этому служению. Он постоянно противопоставляет «веру» в Мировое социалистическое государство христианству, которое эта новая «вера» призвана сменить. Интеллектуалы и управленцы должны охватить весь мир сетью своих организаций, составив «легальный заговор», подобно тому, как прежде раскинуло свои «сети» по всему миру христианство.
«Новая религия» Уэллса лишена трансцендентального плана, и вся нацелена на достижение счастья в земной жизни, реализацию утопического проекта идеального государственного устройства. Подобная «социальная религия», как нам уже известно из собственного исторического опыта, отменяет традиционную (христианскую) мораль и подменяет ее понятиями целесообразности и пользы. Служение этой идее для человека, искренне стремящегося ко благу, таит в себе огромные опасности.
Идеолог переустройства мира начинает мыслить о своих собратьях в масштабах больших цифр. Рассчитывая на созидательную деятельность передовых умов, Уэллс пишет: «Только от них можно ждать творческого импульса. Для революционной теории прочее человечество имеет не больше значения, чем речной ил для проектирования землечерпалки, которая очистит реку» (с. 375 наст. изд.[167]). Он, конечно, предполагает обойтись минимальными потерями, но и большевики, проводя революционный террор по отношению к разным слоям русского народа, тоже надеялись, что людские потери будут минимальными и необходимыми.
Мыслитель, одержимый абстрактной социальной идеей, перестает любить окружающих — реальных и конкретных людей. Всматриваясь в свой внутренний мир, Уэллс с некоторой грустью признавался, что эксплуатировал любовь тех, кто был щедрее его и обеспечивал ему удобную жизнь. В отличие от них, он был сосредоточен на себе и ни разу не проявил бескорыстной любви к какому-нибудь лицу или месту. «Любить бескорыстно мне не дано. Не раз я по уши влюблялся, но это уже нечто иное». Время от времени он «судорожно» начинал делать деньги, но теперь, весной 1932 года, когда ему уже 65 лет, он «молит» судьбу дать возможность пожить спокойно и сделать нечто великое во искупление вины. Это серьезное признание, и оно не является просто фактом личной биографии. В свое время Джонатан Свифт, скептически относившийся к идеям Просвещения и заслуживший за это прозвище Мизантроп, говорил, что ему «ненавистна разновидность под названием человек», однако он питает «самые теплые чувства к Джону, Питеру и Томасу»[168]. Наследник просветительской мысли Герберт Уэллс, напротив, искренне признается, что неспособен любить отдельного человека, но желал бы, в виде искупления, сделать счастливым все человечество.
Возводя социальную идею в ранг религии, Уэллс поневоле проявляет нетерпимость ко всякому инакомыслию, тем более поразительную, что он сам (и вполне справедливо) называет свой образ мыслей либеральным. В эпоху Просвещения, когда слово «либеральный» перешло из бытового языка в идеологический и политический, оно означало человека широких взглядов, восприимчивого к новым идеям, терпимого к чужому мнению. Таким представлялся самому себе и таким до известной степени действительно являлся Уэллс. Приехав в Россию в 1934 г., он был неприятно поражен «догматизмом» и «зашоренностью» и советских руководителей, и писателей во главе с Горьким, не поддержавших идею либерального ПЕН-клуба. Но, читая его рассказ о спорах и несогласиях с разными западными политиками, начинаешь замечать, что Уэллс расправляется со своими оппонентами самым безжалостным образом: люди, не усвоившие его образа мыслей, выставляются малолетними недоумками, учениками ограниченных гувернанток. Ту же категоричность мы находим в его концепции образования: написав очерк истории человечества в духе дарвинизма, Уэллс уверен, что по такой программе следует учить детей во всех школах мира, тогда и воспитается поколение интеллектуалов, которые будут мыслить одинаково. Эти интеллектуалы и станут правящим слоем в новом Мировом государстве, где инакомыслие будет просто «не в природе вещей».
В зрелом возрасте Уэллсу пришлось с сожалением признать, что человечество странным образом не желает идти туда, куда толкает его утопическая мысль; что человечеству, видимо, вообще не по силам великая задача обновления мира, и его, Уэллса, идеи остаются невостребованными. Более того, эти идеи подвергаются критике, особенно в становящемся все более популярным в XX в. жанре антиутопии. Начало ему (что тоже знаменательно) положил внук столь почитавшегося Уэллсом ученого Томаса Хаксли, известный романист Олдос Хаксли, сатирически изобразивший в романе «Прекрасный новый мир» (1932) внешний комфорт жизни и внутреннее убожество личности, попавшей под тотальную опеку «совершенного» государства, вкусившей «преимущества» свободной любви, признающей лишь безответственное наслаждение и аплодирующей «мудрости» государственной политики искусственного воспроизводства потомства.
Параллельно с творческой деятельностью Уэллса еще с конца XIX в. в западной философии появились и стали развиваться течения, доказывавшие, что понятие «разум», созданное философией и естественной наукой Нового времени, есть в сущности некая абстрактная условная конструкция, имеющая к реальному человеческому разуму и его работе слабое отношение. Такие философские течения, как «философия жизни», а затем феноменология и экзистенциализм, набиравшие силу на протяжении первой половины XX в., сосредоточились на исследовании самоощущения и самосознания отдельного конкретного человека в его отношениях с окружающими людьми и социальными институтами. Именно к литераторам этих направлений стало все больше приковываться внимание читателей. Уэллс же со своим «планетарным мышлением» оказался отодвинутым в сторону. Рядовому западному «частному человеку», ищущему в литературе изображения и истолкования своей жизни, глобальные научно-утопические построения перестали быть интересны. Более того, пройдет еще полстолетия и взгляды «лондонского» мечтателя многим покажутся не менее опасными, чем взгляды мечтателя «кремлевского». На пороге XXI в. поднял голову Франкенштейн глобализма. «Новые люди», просвещенные менеджеры, ловкие управленцы, которых так мечтал воспитать Уэллс в едином планетарном государстве, стали заклятыми врагами людей «сверхновых», больше всего на свете опасающихся потерять свою самобытность, идентичность, яростно протестующих против любых манипуляций общественным мнением, готовых сражаться со всем, что стирает спасительное разнообразие мира.