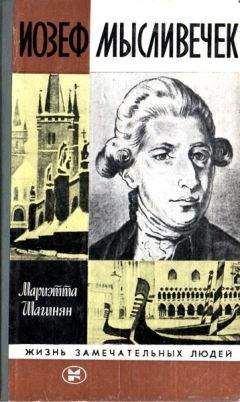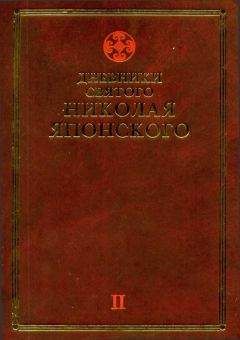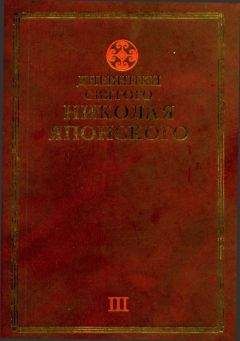Николай Японский - Дневники св. Николая Японского. Том ΙV
— Это чтоб дома жить, ничего не делая, и за это получать содержание?
— Я буду трудиться.
— Да ведь вы же до сих пор нигде не показали признаков труда.
— Здесь покажу.
— Пусть ваш священник на Соборе выскажет вашу просьбу.
Это первый младенец, крещенный мною в Тоокёо. И жаль его, и горе с ним.
7/20 июня 1903. Суббота.
Иоанн Игуци, когда–то катихизатор, потом полицейский, убивший жену другого полицейского, чтобы ограбить его, ныне каторжник в тюрьме на острове Эзо в Цукигата–мура, Кабато–гоори, хочет исповедаться и приобщиться. Ведет он себя ныне хорошо, постоянно просит отсюда то христианских книг, то английских учебников. Но исповедь ему едва ли возможна: по тюремным правилам ему можно говорить со священником только в присутствии надзирателя и в слух его. Надо поговорить с о. Николаем Сакураи, когда он прибудет на Собор — не может ли он выпросить позволение исповедать Игуци без свидетеля и потом приобщить его Святых Тайн.
8/21 июня 1903. Воскресенье.
Приходил Иван Накасима, регент церковного хора в Коодзимаци и вместе студент японской Консерватории в Уено; держал речь, продолжавшуюся больше часа; я молча слушал. Сущность: «Пение у нас в Соборе плохое; переложения Бортнянского все никуда не годятся; учителя пения — Львовский, Обара, Кису — не заботятся о порядочном обучении. Нужно вызвать из России хорошего регента; сделайте это». Мой ответ ему вкратце: «Переложения Бортнянского, быть может, не точны, но не дурны, и исполняются у нас в Соборе порядочно. Вообще пение у нас в Соборе можно больше хвалить, чем хулить. Учителя могли бы учить и лучше, но и так, как учат, сносно. Для трех часов в неделю, употребляемых на класс пения, успех, какой есть ныне, достаточный. Больше же употреблять на пение мы не можем, здесь не специальное училище пения. Вы, если можете лучше переложить Бортнянского или других русских композиторов на японское пение, сделайте это. Если выйдет лучше, то все будут рады, и в Церковь можно ввести это. Или же постарайтесь сами произвести что–либо оригинальное. Должно начаться здесь чисто японское церковное пение, как оное началось в России, принявшей сначала греческое. Если сочините что–нибудь удачное, истинно все рады будут. Что до улучшения хорового пения, то образуйте произвольный хор из любителей пения в Семинарии и Женской школе и упражняйте его. Если он станет петь лучше нынешнего соборного, то можно будет ставить его в Соборе на богослужения. Чтобы вам не мешали образовать произвольный хор и учить его в часы отдыха, не будьте костровы, а соблюдайте добрые отношения с начальствующими в школах и с нынешними регентами», — и так далее.
9/22 июня 1903. Понедельник.
Начальница школы Елисавета Котама приходила с расписанием экзаменов и другими делами и рассказала, между прочим, следующий курьезный факт: четыре ученицы третьего приготовительного класса — Екатерина Хагивара (дочь Текусы, инспектрисы, внучка о. Иоанна Сакаи),
одиннадцати лет; Фива Оно (дочь катихизатора Фомы, внучка о. Павла Сато), одиннадцати лет; Сусанна Огата, двенадцати лет; и Нина Конаса, двенадцати лет — хотели убежать из школы, чтобы поселиться в пустыне, между Аомори и Сендаем, в сделанном ими шалаше, жить там монашками и отмаливать свой грех. Пятая же, Екатерина Имамура (дочь умершего катихизатора Варнавы), одиннадцати лет, участвуя в заговоре, оставалась в школе только затем, чтобы доставлять им в пустыню для пропитания хлеб. Прочие товарки того же класса, хотя в грехе участвовали, но не решились сделаться монахинями, а только дали слово хранить молчание о поступке бежавших. Грех же, приведший к такому отчаянному решению, заключался в следующем: одна из их учительниц, Христина Хасуике, строго обращалась с ними, то есть бранила их иногда — которую за плохое знание урока, которую за шалость, так как они все в классе, как на подбор, народ очень живой и резвый. Это, наконец, вывело их из терпения, и они сговорились наказать учительницу. Но как? Придумали: олицетворить ее в «сакура» (вишневом дереве, которые у них в садике пред глазами и которые так прекрасно цветут весной) и проклясть. Сказано — сделано: собрались все сердитые и, обращаясь к сакура, молвили вслух: «Пусть на тебе не будет цветов будущей весной!» Хотели они учинить этот грех тайком от всей прочей школы, но, увы, не удалось! Подслушали товарки первого класса, то есть почти такая же мелюзга, как они сами, только годом старше, и напали на них с проповедью покаяния. Грешницы почувствовали всю тяжесть своего преступления и до того были поражены раскаянием, что решились всю жизнь посвятить на замаливание своего страшного греха; а так как, живя в школе, а потом в мире, это сделать неудобно, то и задумали оставить школу и мир. Так как все они с севера родом, то с пустыней ознакомились еще раньше, из окна вагона; ее и облюбовали ныне под свой монастырь. Все четверо тайно приготовились — понавязали себе в узелки все, что сочли нужным: кое–что из платья — немного (много зачем же монахиням!), а главное — молитвенники, религиозные брошюрки; не забыли и кусочков булки, какие успели пособрать. И вот на днях вечером, когда среди занятий дается полчаса на отдых, двое из них, Екатерина Хагивана и Фива Оно, незаметно, с узелками, выбрались за ворота. Так как в школьных воротах они боялись попасться, то пробрались по задворью школы к воротам у дома о. Павла Сато и скользнули в них; но и здесь были замечены — увидели от о. Павла, что двое маленьких учениц почему–то выбежали; недоумевая об этом, тотчас же дали знать в школу: пересмотреть, все ли дома? Это подняло некоторую тревогу, помешавшую двум другим последовать за товарками; их приготовленные узелки захвачены были у угла школьного здания. Между тем бежавшие товарки их ждали; видя, что их не догоняют, бежавшие, уже спустившиеся было вниз по улице, вернулись на уровень дома врача Сасаки. Здесь они и были захвачены пустившеюся за ними погонею. Погоню эту составляли, по немедленном уяснении, кого нет в школе, дочь и сын о. Павла Сато; последний, то есть сын о. Павла, Иосиф, сам тоже двенадцатилетний, схватив свою племянницу Фиву за руку и ведя ее обратно в Школу, всю дорогу делал ей реприманды, как подобает дяде, рассерженному неприличием поступка племянницы и считающему своею обязанностью учить ее. Из этого реприманда, буквально переданного мне, я, между прочим, узнал, что мать Фивы, Фотина, в свое время тоже собиралась бежать из школы по благочестивому побуждению (эта вместе с тогдашней своей товаркой по классу Надеждой Такахаси, нынешней начальницей Женского училища в Кёото, задумывала бежать в Нагасаки, чтобы оттуда пробраться в Россию в какой–нибудь женский монастырь и сделаться монахиней). По водворении бежавших в школе разобрана была вся их история и сделаны соответствующие вразумления, которые успокоили всех. Однако же не всем детям это прошло очень легко: Екатерина Хаги- вара, очень нервная по природе, до того расстроилась, что и до сих пор несколько больна. Последнее обстоятельство послужило и началом всего этого разговора. Я спросил Елисавету: «Отчего в воскресенье не было Кати Хагивара в Церкви, не больна ли?» В ответ на что Елисавета и стала рассказывать эту историю. Я заключил наставлением, чтобы учительницы были осторожны в своих выговорах, не раздражали детей и не вызывали их на такие поступки.