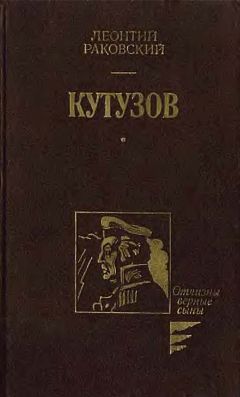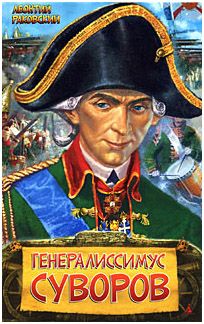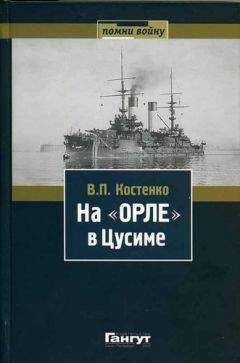Леонтий Раковский - Суворов и Кутузов (сборник)
Михаил Илларионович медленно шел вдоль строя и хоть одним глазом, а все видел, замечал всякий непорядок.
Но вот день прошел. Пробита «Зо́ря», пропели «Отче наш», и раздался фельдфебельский крик (нет приятней команды на свете):
– Водку пить!
Все бегут к каптенармусу, каждый спешит выпить «ржаное молочко»: водку выдавали в Тарутине три раза в неделю, а в дурную погоду – ежедневно. И хотя жадная каптерская душа, конечно, разбавляла ее речной водицей, но солдат пил водку с удовольствием. От каптенармуса все бегут к своим артельным котлам ужинать.
Сытная каша съедена. Трубочка выкурена. Кажется, можно бы и на боковую.
Но ничуть не бывало. О сне никто не думает – завтра не в поход и не на бой, можно и позабавиться.
Вот слева, в соседней роте, уже затянули серьезную песню, которую кто-то сложил здесь, в Тарутине:
Ночь темна была и не месячна.
Справа завели старую, лукавую, занозистую:
Молодка, молодка молодая,
Солдатка, солдатка полковая…
Где-то весело тренькает балалайка, и тенорок вместе с ней выговаривает:
Ах ты, черненький глазок,
Поцелуй меня разок!
А во втором батальоне уже ухает бубен, слышится топот ног, и кто-то припевает, выплясывая:
Как под дождичком трава,
Так солдатска голова:
Не кручинится, не вянет,
Службу царску справно тянет…
У жарких костров пошли задушевные разговоры.
У одного вспоминают Бородино:
– При Бородине трусу не было приюта!
– Да, пришлось и в рыло, досталось и по дыхлам, схватили и под микитки!
– У нас под телегой на самой оси висела корзинка с овсом. Ядро пробило ее, прошло скрозь овес и засело в оси. Так и до сих пор сидит.
У второго костра балагур-рассказчик складно бает:
– Старый муж молодую жену имел, из дому отпускать в гости никуда не хотел. Когда же с нею вместе опочивал, то спальню свою накрепко запирал…
У третьего старый солдат не спеша поучал молодых:
– Первый год службы – это, как сказано, первая паша, первый подножный корм… Я вот, братцы мои, в девяти отражениях был. В первых двух делах, не хочу греха таить, хоть назад и не пятился, а больно струсил: не пришлось мне по скусу, как ядра жужжат да пули свистят. Но с третьей схватки попривык к этой музыке. И перетузил на свой пай чуть ли не десяток врагов!
А в сторонке, где чернеют телеги и шалаши маркитантов, слышится приглушенный говор:
– Что ты, окаянный, уронишь! – недовольно шепчет бабий голос.
– Толста, не расшибешься!
– Чего пристал, всамделе? – уже строже начинает тот же голос, но тотчас сбивается на прерывающийся хохоток: – Ой, пусти, сатана!
– Дуня, слышь-ка! Где же солдату и погреться…
– Я те погреюсь! Пшел ты к лешему! – опять становится суровым бабий голос, слышится звучный шлепок, и от маркитантской телеги отлетает в сторону какая-то фигура в шинели.
– Велика барыня – до нее и не дотронься! Сама не прочь, даром что мужняя жена, – недовольно изрекает фигура.
Но через секунду снова ласково усовещает издалека:
– Дуня, Дуняша! Подь сюда – хозяин требует!
– Я те такого хозяина дам, гладкий пес! – слышится в ответ.
И все эти лагерные звуки покрывают протяжные оклики часовых.
Тарутинский лагерь жил полнокровной, спокойной жизнью, словно не было войны, словно в двенадцати верстах не стоял авангард Мюрата.
Русская армия пополнялась, укреплялась, отдыхала.
Вильсон, Беннигсен и прочие недруги Кутузова не хотели видеть этого, но народ, солдаты понимали прозорливость старого фельдмаршала.
– Наш Михайло Ларивоныч держит Аполиёна в Москве, точно лютого зверя в западне! – с гордостью и некоторой похвальбой говорили они.
Глава десятая
Партизанское житье
В течение шестинедельного отдыха главной армии при Тарутине партизаны мои наводили страх и ужас неприятелю, отняв все способы продовольствия.
КутузовI
Вот когда Черепковский понял, что командовать, пожалуй, труднее, чем быть под командой.
В роте ему ни о чем не приходилось думать: за него думал ротный, капитан Чельцов. А случится тревога – загремит неусыпный барабан.
Здесь же и без барабана вечное беспокойство: выставь за деревней караулы да ночью сам проверь, не спят ли под кустиком дозорные. Патронов мало, ружей и того меньше – у кого голова об этом болит? У командира. А в бою класть голову что рядовому партизану, что командиру – одинаково.
Черепковский и Табаков осваивались с давно забытой деревенской жизнью, а мужики привыкали к новой, незнакомой роли партизан. Черепковский не думал обучать партизан строю. Он учил чистить ружье и всегда помнить о нем.
– Ружье чтоб всегда было справно. Придешь в избу, прежде всего ему место найди. Но не где-либо в темном углу, что сразу и не схватишь, коли вдруг понадобится, и не с бабьими ухватами да помелом, – повторял он то, чему двадцать лет назад учил его самого фельдфебель.
Черепковский прививал партизанам кое-какие солдатские заповеди:
– Кто вперед идет, тому одна пуля, а кто бежит назад, тому десять вослед! Храбрый терпит раны как мученик, трус – как наказанный преступник! – поучал Левон.
– Пострелять бы! – просила молодежь, не очень прислушиваясь к поучениям.
– Патронов мало. В армии и то говорится: береги патрон в бою, а сухарь в походе. А тут и подавно: разживемся немного, тогда и постреляем.
– Как ни учись стрелять, а француз скорее тебя подстрелит, – сказал староста. – Он с ружьем так, как ты с цепом!
– Ничего – схватимся в загрудки!
Табаков слушал наставления Черепковского партизанам и вполголоса говорил бабам, которые так и ждали от этого веселого солдата каких-либо шуточек-прибауточек:
– Левон не колпак: строгий командир! Он у меня ровно поп, а я как пономарь. Он проповеди читает, а мое дело только петь.
Неунывающий Табаков поддерживал настроение деревни: все крестьяне ходили мрачными – в Москву вошел враг.
– Эх, Москва, Москва, горбатая старушка! – вздыхали крестьяне.
– Эта весть, как крещенский мороз, оледенила нас!
– Ничего, братцы! – подбадривал Табаков. – И опрочь Москвы люди живут: вот на Волге, в Сибири, на Украине.
– И какой-то Аполиён? Али у него ноги в десять сажен, что он так быстро до нас добрался? Ведь его царство – за морем, за горами, за лесами?
– Нет, не за морем. К нему по сухому пути дойтить свободно – через Смоленск, наш Витебск, Минск и на Аршаву. Прямая дорога, – объяснял Черепковский.
– Сказывают, он сам-то с локоток, таконечкий, а пузо у него агромадное, словно целое корыто гороху съел.
– Да не ври, – строго перебил Черепковский. – Человек как и все. Мы вот с Табаковым его видали…