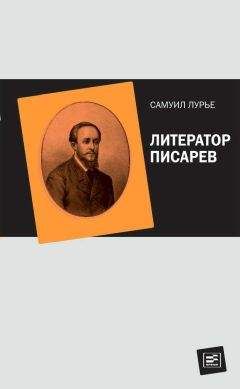Алексей Новиков - Впереди идущие
– Гоголь, – объяснял негодующим Степан Петрович Шевырев, – показал Русь только вполохвата и преимущественно с темной стороны, но непременно покажет отечество во весь охват. Не зря же внес автор в поэму строки о том, что почуются иные, небранные струны, что предстанет несметное богатство русского духа.
Профессора Шевырева тревожило другое. Придется сказать Николаю Васильевичу, хоть и позолотив пилюлю: пока что изобразил он город фантастический, не имеющий ничего общего со здоровой существенностью русской жизни. Но, прежде чем говорить о Гоголе, надо было расправиться с Белинским. Он опять ударил во все колокола. Понимает, что на его мельницу работает Гоголь, увязший в обличениях.
Стоило вспомнить о Белинском, как статья профессора Шевырева для «Москвитянина» излилась сама собой.
«Из тесных рядов толкучего рынка, – писал Степан Петрович, – выскочило наглое самохвальство в виде крикливого пигмея с медным лбом и размашистой рукой…»
Надо было еще раз отдышаться, прежде чем продолжать. Рассуждения же собственно о «Мертвых душах» профессор-эстетик заключил советом Гоголю:
«Одно из первых условий всякого изящного произведения искусства есть водворение полной блаженной гармонии во всем внутреннем существе нашем, которая несвойственна обыкновенному состоянию жизни».
Конечно, автору «Мертвых душ» было очень далеко до такой гармонии. А рассуждения Шевырева можно было принять за парение мысли одного из героев «Мертвых душ», если бы только Манилов был хоть сколько-нибудь сведущ в тайнах эстетики.
Профессор Погодин в свою очередь выражал мнение о «Мертвых душах» с завидной определенностью:
– Выстроил Гоголь длинный коридор и ведет по нему читателя. Открывает двери направо и налево и показывает сидящего в каждой комнате урода… Все уроды! Все подлецы!
Словно бы и этот профессор Московского университета тоже заимствовал манеру выражения у Собакевича. Некоторое же раздражение издателя «Москвитянина» можно было вполне объяснить тем обстоятельством, что так и не удалось ему урвать для своего журнала ни единой строки из гоголевской поэмы. Надо полагать, хозяйственный Собакевич не дал бы такой промашки.
Давно ли покинул Гоголь отечество, а его герои уже жили своей жизнью не только на книжных страницах. Они ездили по московским улицам и беседовали в московских гостиных.
Как можно было обойтись без Манилова, когда в славянофильской говорильне начинался разговор о будущих видах России? Тут бы и вступил в ученый разговор господин Манилов:
– Я, конечно, не имею высокого искусства выражаться, но, чувствуя сердечное влечение и, так сказать, магнетизм души… – После чего, зажмурившись от восторга, предложил бы воздвигнуть монумент любви и единомыслия в каждой усадьбе.
Посмотрел бы Манилов еще раз вокруг себя со всей значительностью и, пустив из чубука новую струю дыма, закончил бы речь:
– Чтобы можно было подле того монумента, так сказать, воспарить и углубиться…
Впрочем, московские философы чаще рассуждали не о туманном будущем, а о язвах действительности.
Приверженцы Запада действовали открыто в самой Москве. Взять хотя бы молодого ученого Грановского. До сих пор лекции в университете читает, отщепенец! И науку такую себе выбрал – историю народов Запада. Не зря, конечно, выбрал, – в укор отечеству. А Василий Петрович Боткин! Сын почтеннейшего купца, но стыдно сказать – строчит статейки в «Отечественные записки» и водит дружбу с Белинским. А тут еще вернулся в Москву сын достоуважаемого Ивана Алексеевича Яковлева, правда, незаконный сын, так сказать, с левой стороны, и дважды ссылавшийся правительством за вольнодумство. С чего же начал этот незаконнорожденный Ивана Алексеевича сынок, получивший вместо отцовской фамилии какую-то чужеземную кличку – Герцен? Допущенный по милости безрассудного правительства в Москву, Герцен явился по старой памяти к Хомяковым и дерзнул сразу же вступить в спор.
Да разве всех западников перечтешь? Но когда говорили о них господа славянофилы, тут не оставалось места для засахаренных речей Манилова. Тут раздавались короткие, но решительные суждения Ноздрева или Собакевича. Конечно, рассуждали москвитяне с большей ученостью, но примерно с теми же словесными фигурациями:
– Все они, западники, – фетюки, гоги и магоги, а попросту сказать – христопродавцы. Такова у них и нравственность и наука – просто фук! Задать им, собакам, на орехи!
Автор «Мертвых душ» уже не ездил в говорильню к Хомяковым. Но и будучи в чужих землях, еще раз мог бы воскликнуть:
– Русь, вижу тебя из моего далека!
Гоголь давно покинул Берлин и приехал в Гастейн, к поэту Языкову. Только свиты, с которой обещал он явиться к больному, не оказалось. А может быть, забыл о ней Николай Васильевич. Очень был занят в Гастейне. Усердно посылал в Петербург Прокоповичу «хвосты» – поправки и дополнения к собранию своих сочинений. Работа спорилась. Спасительная дорога опять помогла.
В России книжные лавки бойко торговали «Мертвыми душами». А ноздревы, маниловы, собакевичи появлялись повсеместно и в самых различных обличьях, порой сменив затрапезную венгерку или архалук на сюртук модного столичного покроя.
Только Плюшкин, пожалуй, никуда не выезжал. Но, может быть, из другой дальней деревни опять двинулся в дорогу экипаж, похожий на арбуз, поставленный на колеса. Мало ли какие новые хлопоты и беспокойства могли случиться у губернской секретарши Настасьи Петровны Коробочки. Ох, неопытное вдовье дело!
А дорожный арбуз Настасьи Петровны наверняка повстречал бы в пути диковинного товарища, похожего на выдолбленную тыкву, тоже оказавшуюся по странности на колесах.
Давно уехал от Ноздрева зять Мижуев, а все еще не успел, поди, рассказать жене о том, что видел на ярмарке, недаром и обозвал его Ноздрев фетюком. Семен же Иванович непременно привернул к соседям… Как, вы не знаете Семена Ивановича? Да ведь это тот самый Семен Иванович, который носит перстень на указательном пальце и всегда дает его рассматривать дамам. Зато и дарят Семена Ивановича вниманием все дамы губернского города NN.
Если же хотите видеть Кифу Мокиевича, поезжайте к нему домой. По умозрительности занятий Кифа Мокиевич все еще не решил философского вопроса: «Если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать…» И хоть неожиданно, как из окошка, выглянул Кифа Мокиевич в конце поэмы, кто ж его забудет?
Удивительное дело! Попались люди под перо какому-то сочинителю, а имена их будут жить куда дольше, чем если бы записаны были они даже в Бархатную родословную книгу.