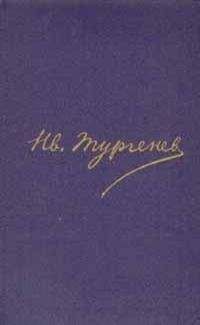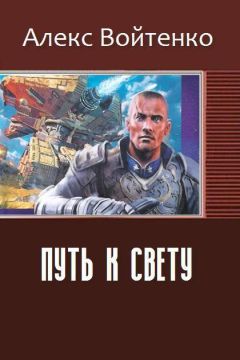Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
В сегодняшнем мире, где царят граммофоны, пианолы и радио, покажется удивительным, что в возрасте тринадцати лет я не слышал другой музыки, кроме редких духовых оркестров, фальшивых гимнов и любительского органа в бромлейской церкви, а также этого пения под аккомпанемент пианино.
А затем настал час безжалостного судилища в лавке. Меня уже готовы были обвинить в воровстве. Но дядя Том упорно меня защищал. «Не надо говорить такие вещи», — заявил он, и впрямь, если не считать постоянной недостачи, поставить в вину мне было нечего. Я не был транжирой, у меня не было друзей с преступными наклонностями, я был обтрепан и неприбран, но у меня не сыскали меченых денег, если они их использовали, да и вообще при мне не оказалось других денег, кроме шестипенсовика, который выдавался мне раз в неделю на карманные расходы, и все поведение мое свидетельствовало о пускай неосознанной, но стойкой добродетели. Я до самого конца не понимал, с чего весь этот сыр-бор разгорелся. Но факт остается фактом: в качестве кассира я допустил утечку денег, и кто-то, я думаю, этим воспользовался.
Не приходилось сомневаться, что я уклонялся и от остальных своих обязанностей. А вдобавок ко всем моим сомнительным служебным качествам я еще и повздорил с младшим грузчиком, что окончилось для меня подбитым глазом. Драка с грузчиком была невероятным нарушением принятых правил поведения со стороны будущего суконщика. Мне было очень непросто хоть как-то объяснить этот подбитый глаз в Серли-Холле. К тому же одежда, в которой я прибыл в Виндзор, никак не заслуживала названия стильной, и мистер Денайер, самый светский из компаньонов, поглядывал на меня со все большим неудовольствием. Я носил черный бархатный картуз, а это было никак не по моде. День ото дня становилось все яснее, что первая попытка матери направить меня на путь истинный не удалась. Я не вступал на этот путь. Я не годился в суконщики, сказали Роджерс и Денайер, и правда была за ними. Мне не хватало лоску. В Виндзоре, с первого дня до последнего, я не сделал даже слабой попытки выполнить предъявляемые ко мне требования. Я им не столько противился, сколько чувствовал к ним отвращение. И что любопытно, хотя я пробыл там два месяца, я не запомнил ни одного лица за исключением приказчика по фамилии Нэш, который оказался сыном бромлейского суконщика и носил длинные усы. Все остальные, сидевшие со мной за обеденным столом в подвале, превратились для меня в безымянные тени. Да я и не смотрел на них. И не слушал. Я не помню расположение прилавков и за каким прилавком что продавалось. Я не обзавелся друзьями. У меня сохранились воспоминания только о мистере Денайере, юном мистере Роджерсе и мистере Роджерсе-старшем, да и то они представляются мне злодеями из пантомимы, вечно за мной гоняющимися и говорящими мне гадости, а я, естественно, только и делал, что пытался улизнуть от них. Они не любили меня; я думаю, все окружающие меня не любили, считали зловредным маленьким негодяем, от которого одно беспокойство, пользы же никакой, который либо вечно исчезает, когда он нужен, либо крутится под ногами, когда в этом нет необходимости. Думаю, самомнение мое постаралось изгладить у меня из памяти другие унизительные подробности. Я даже не помню, сожалел ли я о своем провале. Но вечерние походы по Мейденхедской дороге, в которые я отправлялся при первой возможности, до сих пор живы во мне. Я мог бы и сейчас начертать этот маршрут — вниз по склону и дальше через Клюэр. Я способен показать, где дорога становилась шире и где сужалась. Подобно большинству хилых подростков, я был трусоват, и последний пустынный участок пути от Клюэра до гостиницы я проделывал с немалыми опасениями. В безлунные ночи там было темно, а когда светила луна и с реки поднимался туман, мне и вовсе становилось жутко. Мое воображение населяло темные поля по обеим сторонам дороги притаившимися там врагами. Темные купы кустарника в плохо подстриженной живой изгороди пугали меня. Порою я пускался бегом. Чуть ли не неделю на дороге маячил призрак сбежавшей из клетки пантеры — говорили, что она сбежала из прибрежного поместья леди Флоренс Дикси, называвшегося «Рыбное». Эта воображаемая пантера терпеливо меня поджидала, она шла за мной бесшумными шагами, как собака, и однажды, когда за изгородью фыркнула лошадь, я чуть с ума не сошел со страху.
Но ничто не могло удержать меня вдали от Серли-Холла, где открывался простор моему воображению и где я ощущал себя человеком. Сперва подсознательно, а потом и вполне осознанно я тянулся к миру, где царили книги, открывалась возможность самовыражения и творчества, от которых меня отгораживала необходимость строго следовать соображениям экономии и выгоды, предписываемым работой по найму. И никакие увещевания моей матери и братьев не могли заставить меня сосредоточиться на тонких бумажках и их копиях, которые совали мне в окошечко кассы:
— Одиннадцать с половиной по два и шесть. И побыстрей, пожалуйста!
5. Второе вступление в жизнь. Вуки (зима 1880 г.)
Бедная мамочка, этот маленький домашний полководец в кружевном чепце и фартуке домоправительницы Ап-парка, вынуждена была справляться со всем одна по собственному разумению и на собственные средства. Джо в своем Бромли со сломанной ногой и убыточной лавкой мало в чем мог ей помочь. Ему пришла мысль, что господин Хор или господин Норман, с которыми он вместе играл в крикет, пригласят меня, учитывая, что я получил первоклассное бухгалтерское образование, на должность банковского чиновника, но, когда выяснилось, насколько глухи к его просьбам тот и другой, дальнейших попыток оказать маме помощь отец не делал. А крышу над головой, питание и достойное место для младшего сына так или иначе надо было сыскать. Здесь-то и появился дядя Уильямс со своим, как могло тогда показаться, заманчивым предложением. Он собирался открыть небольшую казенную школу. Мне представилась возможность стать при нем младшим учителем.
В те времена учительские обязанности в начальных классах по большей части поручались детям не намного старшим, чем их ученики.
По окончании школы они не поступали на работу, а становились «учениками-преподавателями» и спустя четыре года приобретали право пройти годичный или двухгодичный курс усовершенствования, что давало им право тянуть лямку до конца своих дней. Если тогдашний учитель начальной школы становился чем-то большим, нежели натасканным работягой, он был обязан этим исключительно собственному старанию. Дядя Уильямс, прослышав о затруднениях моей матери, и надеясь, что мои успехи в Колледже Наставников помогут сократить мой испытательный срок в качестве «ученика-преподавателя», принял меня на должность, как тогда выражались, «практиканта».