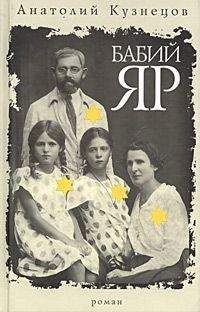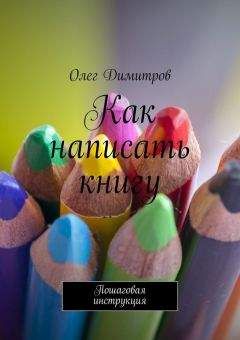Юлий Марголин - Путешествие в страну Зе-Ка
В первый раз посадили меня в карцер, когда лилипут Петерфройнд, который оставался в пустой конторе, пока я ходил на ужин, не сразу подошел к телефону. За то, что меня не было при телефоне, когда звонил Лабанов, он мне назначил двое суток. Я сам себе выписал ордер на двое суток, и Лабанов подписал его с удовольствием. Мы так много сажали тогда народу в карцер, что очередь до меня дошла не скоро. Теперь можно признаться, что я совсем не сидел. «Завизолятором» Фридман вписал меня в карцерный журнал, и я отсидел свои двое суток (т. с. двое ночей) только на бумаге.
Лабанов заставил меня оглашать его ежедневные приказы по лагерю при разводе. Я должен был вставать с подъемом, выходить к вахте и перед собранными бригадами читать его распоряжения по лагерю, среди которых были и дисциплинарные взыскания. Составление этих приказов по лагерю входило в мои обязанности «секретаря» Ему доставило невероятное удовольствие, что я, таким образом, должен был составить и огласить приказ о водворении в карцер себя самого. — «Ну, как, — спросил он, — прочел про себя самого?» — и хихикнул.
Хотя Лабанов трижды посадил меня в карцер, я не сидел ни разу, благодаря тому, что заведующий «Шизо» был свой человек, «западник». Скоро Лабанову надоело истязать меня, и он меня отправил в лес. На мое место подобрали русского. Мой преемник был тихий, вежливый, болезненный человек, который лучше меня умел использовать выгоды своего секретарского положения. Карманы у него были полны стахановских талонов, и каждый раз, когда я заходил к нему в контору, он без моей просьбы вручал мне талон. Зато я, когда получал посылку, обязательно приносил ему пачку украинского табаку.
При Лабанове половина западников свалилась с ног, план не выполнялся, и кончилось тем, что его скоро перевели от нас. На его место прислали Абраменко, бывшего сотрудника 3 (политической) части — «хохла с юмором», о котором я уже упоминал. Абраменко наладил «производство» с помощью нескольких сот русских з/к. От «западников» же толку не было до самого конца их пребывания в лагере.
В одно зимнее утро, когда мы уже часа три отработали в звене Глатмана, подъехал к нам возчик. Подъезд был трудный, и не так легко было поставить сани в нужном месте. Лошадь упиралась, и возчик не мог с ней справиться. Движения возчика были так неловки, и все, что он делал, так затрудняло нам навалку, что Глатман рассвирипел. Как он ни указывал, все получалось у возчика наоборот. Наконец, Глатман размахнулся и наотмашь ударил возчика в лицо.
Я думал, что начнется драка, но вместо этого возчик опустил руки и расплакался, как малое дитя.
Глатман плюнул и отошел в сторону. — «Зачем ты его бьешь? — сказал я с укором, увидев из-под ушастой шапки совсем молодое лицо 17-летнего мальчика. — Все его бьют! опять Салек!».
— Зачем он лезет, куда не надо! — с сердцем сказал Глатман: — разве ему по силам быть возчиком? Разве это для него работа? Ведь он саней повернуть не умеет. Это еще ничего, а если бы в русском звене, они бы ему кости поломали!
Салек все еще плакал, прислонившись к оглобле и не утирая крупных слез. Я подошел к нему и как ребенка стал его утешать.
Салек в самом деле лез, куда не надо. Он был похож на любознательного и наивного щенка, который всюду тычется носом и от всех терпит незаслуженную обиду. Дома, наверное, мать очень его баловала. Салек мне рассказывал про родительский дом и пекарню отца в галицийском местечке, — про то, какие булки у них пекли и какие перины мать стелила на ночь. Он был здоров, лицо имел пухлое, ребяческое, и отличался удивительной способностью у всех оказываться под ногами. Спускаясь с верхней нары, он непременно задевал ногами сидевшего внизу. Подходя к печке, чтобы помочь (он еще и услужлив был, как хорошо воспитанный мальчик), подать кому-нибудь кружку с огня, — он ее непременно опрокидывал и разливал. Когда растапливали печку в бараке, он до тех пор ворошил и поправлял дрова, пока огонь не гас, хотя его никто не просил помогать.
Поэтому все его били нещадно и жестоко. Не было дня, чтобы он не плакал навзрыд, чтобы не раздавался его жалкий, ребячий визг, чтобы не бросалось в глаза среди барака его орошенное слезами лицо. Как щенка, его отшвыривали пинком от печи, когда кто-нибудь хотел погреться, а места нехватало. — «Ведь я раньше пришел!» — рыдал Салек, пораженный такой несправедливостью. И быть возчиком он попросился без раздумья, когда вызывали желающих работать на лошади. Он еще не умел соразмерять своих сил. Кости у него были мягкие, но зато аппетит — волчий. Салек никак не мог наесться досыта. А возчиков хорошо кормили.
Мое сочувствие или жалость не могли его накормить, или облегчить его работу. Лагерь учил его беспощадно — учил о праве сильного и о законах борьбы за существование. Салек оказался понятливым учеником.
Скоро я увидел, как он бьет тех, кто слабее его. Он научился уходить с дороги сильных и брать за горло, кого можно. У него появился сиплый бас, и он стал материться затейливо и сложно, как заправский урка. В конце зимы опять кто-то жалко плакал в нашем бараке. Но это уже не был Салек. Салек был тем, который избил. В дых, в зубы, в морду, — как его самого били, а потом отошел в сторону и сплюнул — точно так, как это сделал Глатман в то утро. — «Зачем ты так делаешь?» — хотел я спросить — и не посмел. Салек презрительно посмотрел на меня, как на пустое место. Взгляд у него был волчий. Волченок! Уже он умел укусить больно, выучился воровать, не стеснялся открыто взять чужое, как настоящий урка, нагло глядя прямо в глаза: «посмей сказать слово!» Уже Салека боялись в бараке, и ходили слухи, что он передает в 3-ю часть, о чем разговаривают западники. Так долго топтали Салека, пока он не научился топтать других.
И как могло быть иначе? Сама власть — непогрешимая и всемогущая — преподала ему урок циничного и грубого насилия. Никто его не жалел, не учил уважать человека. А в самом лагере уважали только силу. Скоро Салек научился презирать «доходяг», людей, которые без сопротивления идут на дно, не умеют дать подножку врагу. А врагом Салека был весь мир.
Молодежь 17–18 лет, попадая в лагерь, либо «доходила», т. е. физически чахла, либо быстро дичала, в короткий срок усваивая приемы и мировоззрение бандитов. Не все, как Салек, становились волками. Другие, под конец, как гиены и шакалы, жили падалью, ходили за лагерными богачами и силачами, подбирая объедки, сидели под кухней, ожидая, чтобы им выплеснули помои и картофельную шелуху — сторожили, когда поедет в каптерку воз с капустой, и всей сворой бросались на него, чтобы под ударами кнута стащить качан и убежать с ним.
Тема — «молодежь в лагере» — относится не только к заключенным. В конторе 48-го квадрата работал Ваня — подросток лет 16-ти, вольный — с круглой стриженой головой и смышлеными глазами. Ваня был сыном ссыльно-поселенцев, прикрепленных к району. Это был способный парнишка, он окончил счетоводные курсы и работал у нас в бухгалтерии. В возрасте, когда еще надо учиться, он был вполне самостоятелен и начал карьеру советского служащего. Лагерь его не удивлял и не смущал. Мира без лагерей он себе и представить не мог. Для своих лет он был необыкновенно солиден и сдержан. Ваня жил очень бедно: ел немного лучше нас, носил серо-мышиный бушлат и рубашку, как заключенный; комнаты своей не имел и ютился в углу у кого-то из стрелков. Я к нему приглядывался с любопытством: что этот подросток знал о жизни, какие у него были перспективы в будущем?