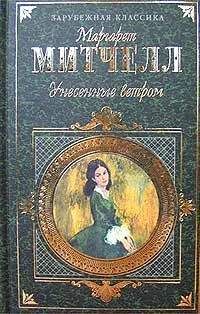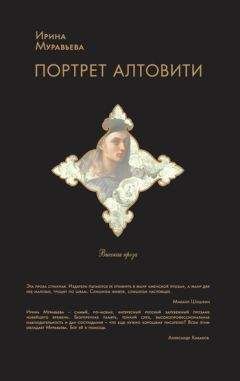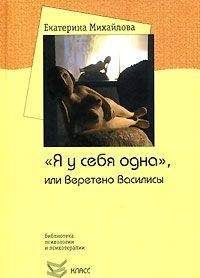Раиса Кузнецова - Унесенные за горизонт
― Шура, да у нее, как у тебя! Аппендицит! ― закричал Алеша.
И выскочил на улицу. Минут через десять вернулся с такси.
― Одевайте ее, быстро! ― сказал он.
И вскоре машина мчала нас по улицам Москвы. Брат сказал, что мы едем в больницу, к профессору Мейеру.
В прошлом году, на Пасху, Шура почувствовала резкие боли, следом открылась рвота. Ожидание кареты «скорой помощи» продолжалось до вечера. Когда же, наконец, ее доставили в больницу, профессор Мейер вынужден был без всякой подготовки взять ее на операционный стол. Вся брюшная полость оказалась залитой гноем. Полтора месяца Шура лежала с не зашитой после удаления аппендикса раной, в которую закладывались тампоны с лекарством.
― Если я ошибся и у тебя не тот случай, поедем обратно, да и все. Но я хочу, чтобы профессор посмотрел тебя. Надеюсь, мне он не откажет.
Нам повезло: профессор был в больнице. Он без промедления осмотрел меня и громко похвалил брата:
― Диагноз вы, молодой человек, поставили на пятерку. К счастью, у вашей сестры аппендикс обычный, без гангрены. Сегодня мы, как полагается, ее подготовим, а завтра утром и прооперируем.
Профессор улыбнулся уголками глаз, подал мне большую руку и помог спрыгнуть с высокого стола.
Я поблагодарила и побрела в палату, почувствовав к этому красивому и доброму человеку симпатию и полное доверие. Прощаясь с братом, дала служебный телефон Ароси, слезно умоляя непременно позвонить и сказать о случившемся ― сегодняшним вечером мы снова договорились встретиться. И вот ― подготовка к операции еще не закончилась ― сразу после «мертвого часа» санитарочка, улыбаясь во весь рот, вносит в палату большой букет пряно пахнущей мимозы, к которому прилагается и письмо, полное бурных слов любви и ужаса перед предстоящим мне испытанием, с призывами быть мужественной и смелой.
Операция прошла быстро, под местным наркозом, с разговорами с профессором о современной поэзии. Однако на другой день появилась дикая головная боль[23]. Я лежала без подушки, свесив голову вниз. Это явно сильно беспокоило Мейера, он заходил даже ночью, тихонько гладил меня по волосам, и, странное дело, мне сразу становилось лучше. А через три дня боли исчезли, мне разрешили подниматься и даже принимать гостей.
Первым в палате появился Арося ― оказалось, он приходил справляться о моем состоянии каждый день. Пришел опять с цветами, смущенный и прекрасный, сильно замерзший. Пока я болела, в Москве установились невиданные трескучие морозы. Достать цветы, да еще невредимыми донести их до больницы, было настоящим подвигом.
Цветы стоили немыслимых денег; счастливая, я корила любимого за расточительность и посмеивалась над его страхами за мое здоровье. Он глядел на меня часами, бледную, худую и просто некрасивую, держал мою руку, а когда снимал очки, от близорукого взгляда его чудесных синих глаз по моей спине толпой пробегали мурашки блаженства.
Последнее письмо
На десятый день после операции меня выпустили на «свободу» с твердым наказом профессора не меньше месяца находиться дома и питаться только жидкой пищей. Обеспечить такой режим питания в поезде до Иркутска было невозможно.
А занятия уже начались. Кошмар! ― я теряла почти полтора месяца второго семестра, а из-за этого целый год! И мне пришла идея: а не сходить ли в деканат юрфака МГУ на разведку? Вдруг появилась возможность принять меня, москвичку, в число студентов? Особенно на удачу не рассчитывала, но чем черт не шутит!
Меня всегда удивляло, как жизнь сближает события, сгущает действие, словно плохой режиссер, добивающийся наибольшего драматического эффекта. Но что же делать, если так и было?
Через три дня после моей выписки Арося мерз в скверике на Моховой ― он снова отпросился с работы, чтобы сопровождать меня в деканат. На улицах было скользко, и он опасался за мой операционный шов.
Декан факультета, товарищ Новиков, потеребив справку из больницы, тут же отдал распоряжение зачислить меня в группу второго семестра и срочно запросить из Иркутска мои документы. Оказалось, в Москве был большой недобор студентов, так как многие «практики» или не явились на занятия, или сбежали с них спустя некоторое время.
Радостная, размахивая портфелем, выскочила я на университетское крыльцо, разогналась и покатилась, как девчонка, по черной полоске льда прямо в объятия испуганного Ароси.
― Какая ты легкомысленная! ― принялся он отчитывать меня.
― Зато везучая! Танцуй!
Арося сразу все понял и, как-то неловко взмахивая руками, стал притопывать и покачиваться.
― Получилось? ― не веря счастью, спросил он.
― Еще как!
Спустя пять минут, на Тверской, мы за обе щеки, забыв наказ профессора, уплетали горячие пончики; вытерев снегом пальцы, испачканные сахарной пудрой, взялись за руки и молча, словно утомленные своей радостью, двинулись в сторону Страстной. Шаги сделались громкими, хрустящими. «И может быть, скоро ты встретишь другого человека, полюбишь его и рука об руку пройдешь с ним по своему жизненному пути», ― стучали в моей голове слова из письма, полученного накануне. Письмо лежало в промороженной темноте портфеля, который, в такт шагам, покачивался в Аросиной руке, а в сердце все глубже входила ледяная игла.
― «Я не знаю, прочтешь ли ты это письмо или разорвешь его. Я не знаю, как нужно обращаться к тебе ― на официальное «вы» или на более привычное и дружественное «ты». Последнее естественнее ― я так и буду писать. Во мне не говорит желание оправдать себя, уменьшить свою вину перед тобой. Я просто хочу объяснить тебе свои мысли и чувства за время нашей короткой брачной жизни. Конечно, ты можешь сказать, что это неинтересно, да и не нужно тебе. Я сам это понимаю, ― но все же пишу, так как тяжело, очень тяжело уходить из жизни любимой женщины, оставив презрение, а может быть, и ненависть к себе с ее стороны. Твое письмо, кажется единственное, я смог прочитать только в день суда, 28 декабря, так как оно было пришито к делу.
Лишь за двадцать минут до начала судебного заседания я получил в руки дело, а вместе с ним твое письмо. С болью, тяжелой болью я читал страницы, исписанные твоей рукой. В письме звучали и недоумение, и мольба о помощи тонущего человека, и отчаяние любящей женщины. Ты писала, страдала, плакала, очевидно, а я в это время ― метался, как дикий зверь, по камере, зная твое состояние, сознавая свое полное бессилие помочь тебе, быть около тебя. Ты писала, что в тяжелую минуту я покинул тебя, бросив на поругание... А я в эту минуту сидел в тюрьме, неся наказание за отчаянную попытку спасти твою любовь, сохранить нашу совместную семейную жизнь. Правда, я не сказал тебе ни слова правды, кроме фамилии, имени и отчества. «—» Сначала я обманывал других, а когда от этих других узнала обо мне ты, мне пришлось выбирать: или открыть тебе сразу правду и потерять тебя, так как вряд ли зарождающаяся, да еще в таких тяжелых условиях, твоя любовь ко мне смогла бы перебороть хотя и правду, но правду горькую.