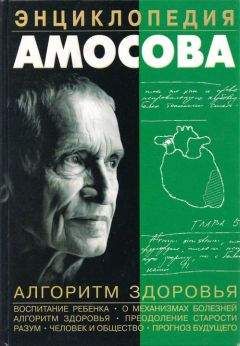Станислав Токарев - Хроника трагического перелета
Итак, свадебное путешествие молодых провинциалов. Конечно же, в Москве — посещение Художественного театра. Можно предполагать, что из репертуара выбрано нечто модное. «Братья Карамазовы», к примеру, где, бурей перехлестывая за рампу, опалял зал темперамент Леонидова в роли Мити. «Анатэма» Леонида Андреева, где кумир студенческой Москвы Качалов представал в облике таинственном, зловещем, змееподобном. Затем Петербург, конечно, Александринский театр, мольеровский «Дон Жуан», неожиданно превращенный бывшим любимцем и воспитанником Станиславского Мейерхольдом в декоративное, эстетское зрелище: роскошь эпохи короля — солнца, куртуазный обольститель — Юрьев, уморительный Лепорелло — Варламов, мило — шаловливые слуги просцениума, наряженные арапчатами…
И в страстях по Достоевскому, и во мраке пьесы Андреева — гнет, надрыв. Предгрозовая духота. Шелково — бархатно — кружевной изыск Мейерхольда, как ни странно, тоже наводит зрителя не на веселые легкие мысли. Версальские идиллии предшествовали воцарению ее кровавого величества Гильотины.
В Северную Пальмиру молодые прибыли, похоже, в апреле или первых числах мая. Когда на афишных тумбах красовались объявления о первой Авианеделе. Имена Попова, Морана, Винцирса, Эдмона, баронессы де Лярош. И на аэродром товарищества «Крылья» устремился весь Петербург. И мадам Васильева тотчас пожелала там, средь столичной публики, блеснуть новым — столичным — туалетом.
Можем предположить, что Александра Алексеевича не столько влек Комендантский аэродром, сколько Коломяжский ипподром. Уроженец Тамбовщины, да еще и крестник отставного гусара, сам не мог не вырасти лошадником. Эту страсть пронесли через всю жизнь многие пилоты. Тем паче, что стартовали они именно с ипподромов. Великий летчик нашего времени Михаил Михайлович Громов уже в звании генерал — полковника, после Великой Отечественной, самолично участвовал в бегах — наездник — любитель под псевдонимом Михайлов, и призы брал…
На Тамбовщине бурлила главная в России Лебедянская лошадиная ярмарка, вряд ли крестный не брал туда с собой мальчика. Воображению автора видятся ряды коновязей, подле которых, жуя недоуздки, перебирая копытами, гривами потряхивая, источая неповторимый, пьянящий лошадника дух — гнедые, рыжие, вороные, серые, буланые, соловые… И баре — знатоки похаживают на кривоватых ногах, и непроницаемые заводчики, ни черточкою лиц не выдающие истинных намерений. И неизменные коричнево — смоляные цыгане с глазами быстрыми, непроглядными, хитро — опасными. И офицеры — ремонтеры кавалерийских полков властно кладут ладони на нежный храп, обнажают зубы кровных жеребцов и кобыл. И неопределенного, но аристократического вида господа с обхожденьем развязно — дружелюбным берут офицеров об руку, дают веские советы, — явно шулера, охотники до не проигранных еще полковых сумм.
Мы вправе представить нашего героя на трибуне ипподрома, где, всматриваясь в дальний поворот, на котором наездники, теснясь к бровке, взялись уже за хлысты, он внезапно видит вдали восходящее над всем этим, подобно солнцу, летучее чудо.
Знак судьбы.
Свидетельство. «Побывав несколько раз на полетах в Петербурге, Васильев решил обучаться делу авиации. Однажды, придя на аэродром, нашел аппарат «Блерио» с мотором «Анзани» свободным и задумал, благо не было зрителей, совершить пробный полет (едва ли не впервые). Он сел на аэроплан, пустил в действие мотор при помощи единомышленника (скорей всего, то был студент — поляк Генрих Сегно — предположение о их близости основано на том, что Сегно учился летать и первым сдал экзамен в Императорском аэроклубе на «Блерио», купленном Васильевым у Морана и оставленном товарищу по отъезде в Париж. — С. Т.). Мотор заработал, аппарат оторвался от земли. Не будучи еще хорошо знаком с управлением рулями (!), Васильев не растерялся и начал подниматься выше, чтобы не задеть за строения. Но вот мотор стал издавать какие — то астматические звуки, откуда — то пошел дым, почувствовался запах бензина. Предвидя возможность пожара или взрыва, он направил свой путь прямо на землю. Он не представлял себе, как совершит спуск, не владея атеррисажем (!). Не долетев несколько сажен, выпрыгнул, попал в колосья ржи, а несчастный аэроплан грузно упал невдалеке от него. Не прошло мгновения, как раздался оглушительный взрыв, и от аппарата остались одни осколки».
Из рассказа А. А. Васильева сотруднику газеты «Казань» осенью 1910 года.
Вероятно все же, что репортер кое — что преувеличил — для красоты слога. Не мог Васильев взлететь впервые. А если даже он и освоил рулежку на земле, сесть, не владея атеррисажем (спуском, сложнейшей частью полета), был не в состоянии. Видимо, кто — то дал ему пусть три, пусть два урока. Кто же?
Версия. Упомянутый мною выше покойный биограф утверждал, что во время той международной воздухоплавательной Недели Александр Алексеевич познакомился с самим Николаем Поповым, последний проникся к нему симпатией, усадил к себе пассажиром, вознес в воздух…
Произойти это могло между 10 мая (последний день «митинга») и 21–м. Сразу после 10–го у Попова не было аппарата (оба, с которыми приехал, он, как мы помним, доконал). 15–го на первый военный аэродром в Гатчину был доставлен еще один «Райт», купленный министерством через посредство фирмы «Ариэль». Учил летать Попов, естественно, военного — поручика Евгения Руднева, его возил пассажиром. 21–го должна была состояться официальная приемка аэроплана.
Согласно рапорту командира Воздухоплавательного парка генерал — майора Кованько «вечером 21 мая с. г. г — н Попов пожелал, прежде чем лететь с пассажиром или грузом, испытать аппарат в полете один. В 8 часов 51 минуту вечера он поднялся с самого конца рельса очень хорошо. Во время полета аппарат держался очень ровно. В 8 часов 56 минут г — н Попов стал спускаться, быв перед этим на высоте 30 метров, спускался круто, и тут на расстоянии пяти метров от земли у него аппарат почему — то клюнул носом. «Мы, — доносит свидетель случившегося поручик Руднев, — увидели, как аппарат перевернулся, и раздался треск ломающегося дерева… По всей вероятности, г — н Попов не смог остановить мотора, сделав неудачное движение, упал передней частью полозьев… аппарат был опрокинут и всею массой налег на авиатора».
Диагноз — сотрясение мозга, другие многочисленные травмы. Десять дней Николай Евграфович находился на грани смерти.
Обо всей остальной — вне авиации — жизни, закончившейся самоубийством, уже коротко упоминалось.
Так что не мог он учить Васильева.
О, сладкий соблазн сочинительства, подгонки факта под версию! К примеру, биограф утверждал, что в сентябре 1910 года, возвратясь из Франции (об этом — ниже) и отправясь в летное турне по Волге, Васильев познакомился в Нижнем Новгороде с Петром Николаевичем Нестеровым — тем самым. Нестеров к Нижнему имеет, конечно, прямое отношение: здесь родился, окончил кадетский корпус. Однако в названное время подпоручик, числившийся по службе в 9–й Сибирской артиллерийской бригаде (она стояла во Владивостоке), был для поправления здоровья — страдал туберкулезом — временно причислен к другой части и находился на Кавказе, в Петровске (ныне — Махачкала). И тут концы с концами не сходятся.