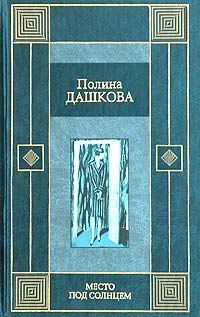Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова
В Лондоне Владимир веселился, бывал на балах и даже танцевал однажды фокстрот с самой Анной Павловой. Он гулял по городу и играл на бильярде со школьным приятелем Самуилом Розовым. Чтоб не сдавать «предварительные экзамены» в Кембридж, он взял у Розова его отличный «табель успеваемости» из Тенишевского, здраво рассудив, что англичане не разберутся, чей это документ и что там написано по-русски.
1 октября 1919 года он начал занятия в кембриджском коледже Святой Троицы (Тринити-Коледж):
«Помню мутный, мокрый, мрачный октябрьский день, когда с неловким чувством, что участвую в каком-то ряженье, я в первый раз надел тонкотканный иссиня-черный плащ средневекового покроя и черный квадратный головной убор с кисточкой…»
Итак, он был студент Кембриджа, сбылась давняя, еще петербургская его мечта. Если б не было всех потрясений, и потери дома, и потери Выры, и Крыма, и бегства из России, он все равно поехал бы учиться в Англию, в прославленный Кембридж, может, даже в этот вот самый Тринити-Коледж. Все так и все же не так. Не только оттого, что реальная жизнь насыщена деталями, которыми так успешно пренебрегает наша мечта. Не оттого только, что небо над Кембриджем серое, как овсяная каша. Не оттого, что «он ждал от Англии больше, чем она могла дать» («Истинная жизнь Себастьяна Найта»). Причиной не были ни «очки юркой старушки, у которой снимаешь комнату», ни сама комната с грязно-красным диваном, угрюмым камином, нелепыми вазочками на нелепых полочках, ни ветхая пианола с грыжей, ни пылью пахнущий просиженный диван и частые простуды, ибо мудрено здесь не простудиться: «Из всех щелей дуло, постель была как глетчер, в кувшине за ночь набирался лед, не было ни ванны, ни даже проточной воды: приходилось поэтому по утрам совершать унылое паломничество в ванное заведение при коледже… среди туманной стужи, в тонком халате поверх пижамы, с губкой в клеенчатом мешке под мышкой». Не было причиной и то, что в этом краю свободы, как выяснилось, существует «тьютор», который следит за тем, как ты учишься, как ты себя ведешь, и еще Бог знает за чем: «То, что кое-кто совершенно посторонний мог мне что-нибудь позволять или запрещать, было мне настолько внове, что сначала я был уверен, что штрафы, которыми толстомордые коледжевые швейцары в котелках грозили, скажем, за гулянье на мураве, — просто традиционная шутка». Однако штрафы ему приходилось платить, а «тьютор» вызывал его для беседы. И все же дело было не только в расхождение «нарядной и сказочной» Англии его младенчества со спартанской Англией его кембриджских лет. Ведь почти то же разочарованье испытали более зрелые Бунин и Цветаева, и еще многие-многие, попав уже эмигрантами в те самые места, которые были когда-то нарядной заграницей их благополучной юности или детства. Все для них переменилось теперь. Они больше не были здесь желанными и богатыми гостями-туристами, которые, наглядевшись досыта на заграницу, уедут домой. У этих людей больше не было дома, и главное было в их эмигрантском ощущении бездомности. Доводилось слышать, что у Набокова не было этого эмигрантского ощущения, что он, по существу, и не был никогда эмигрантским писателем, поскольку с детства знал английский и был космополит. А один из моих блистательных московских друзей-диссидентов (ныне не менее блистательный лондонский профессор) даже сообщил однажды в высоколобом эмигрантском журнале, что вот, мол, был в эмиграции писатель, у которого, в отличие от множества других, измученных тоской по родине, не было никакой ностальгии, поскольку он унес Россию с собой, в себе. К сожалению, все было не так. Ощущение изгнанничества, посетившее юного Набокова уже в Крыму, именно в Кембридже стало пронзительно острым:
«У меня было чувство, что Кембридж и все его знаменитые особенности, — величественные ильмы, расписные окна, башенные часы с курантами, аркады, серо-розовые стены в пиковых тузах плюща, — не имеют сами по себе никакого значения, существуя только для того, чтобы обрамлять и подпирать мою невыносимую ностальгию. Я был в состоянии человека, который, только что потеряв нетребовательную, нежно к нему относившуюся родственницу, вдруг понимает, что из-за какой-то лености души, усыпленной дурманом житейского, он как-то никогда не удосужился узнать покойную по-настоящему и никогда не высказал своей, тогда мало осознанной любви, которую теперь уже ничем нельзя было разрешить и облегчить».
Нетрудно догадаться, что чувство это он изливал в стихах и что стихи эти во множестве были про милую Выру, про возвращенье домой, наяву и во сне (извечный и неизбывный сон эмигранта).
Все ясно, ясно; мне открыты
Все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый;
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадьбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки…
…Мои деревья, ветер мой
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!
Конечно, несколько неожиданной была суровость этой жизни, где все оказалось не таким, как мечталось, и даже ты сам не такой, как думал («и английское произношение, которым Мартын тихо гордился, тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок»). Незримая стена отгораживала его от, казалось, таких близких и понятных ему англичан, а тоска по оставленному вдруг навалилась на плечи юного Набокова, и он, умевший с такой полнотой чувствовать радость жизни, вдруг познал, что значит быть одиноким и несчастливым.
В неволе я, в неволе я, в неволе!
На пыльном подоконнике моем
Следы локтей. Передо мною дом
Туманится. От несравненной боли
Я изнемог…
Юный поэт глядит в узкий проулок, куда выходит его окно, и видит влюбленную пару. И ему вдруг кажется (о, этот слуховой обман, так хорошо знакомый всякому русскому эмигранту!), «что тихо говорят они по-русски».
Как и прочие эмигранты, он называет предмет своей любви. Россия. Русская речь. Русский пейзаж. Русская поэзия…
«Под бременем этой любви я сидел часами у камина, и слезы навертывались на глаза от напора чувств, от размывчивой банальности тлеющих углей, одиночества, отдаленных курантов, — мучила мысль о том, сколько я пропустил в России, сколько я бы успел рассовать по всем карманам души и увезти с собой, кабы предвидел разлуку».
В долгожданном английском университете главным для него становится — удержать в себе Россию: «Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию».
Да, конечно, при этом он слушал курсы русского и французского, он даже записался на «зоологию», которую вскоре поменял на «ихтиологию». Заниматься ихтиологией подбил его цейлонец Леирис (которого Набоков назвал отчего-то в воспоминаниях восточным принцем), тот самый, что во время бокса подпортил ему линию носа. Да, конечно, он продолжал заниматься и боксом, и теннисом (в теннис он играл с братом Сергеем и теперь, благодаря теннису общался с ним больше, чем в детстве) и, конечно, стоял в воротах одной из футбольных команд.