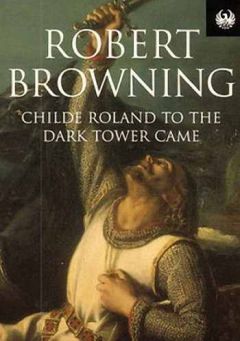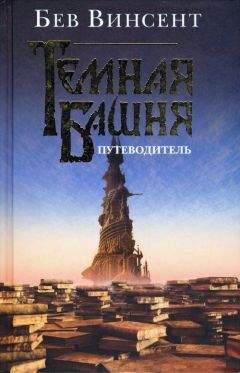Этти Хиллесум - Я никогда и нигде не умру
И Гласснер, все лучше играющий на рояле. Мне сегодня хотелось крикнуть ему: «Мы следим за твоими успехами, молчаливый, кроткий Гласснер».
Бывают моменты, в которые я, как говорится, на собственной шкуре ощущаю, почему творческие люди, опускаясь, предаются пьянству, разврату и т. д. Чтобы не выпасть в моральном отношении из пазов, чтобы не вогнать себя в бесконечность, художник должен обладать очень сильным характером. Не могу описать точно, но в иные моменты я так это чувствую. Всю свою нежность, свои сильные эмоции, все бушующее море, океан души, назовите как угодно, мне бы хотелось излить в одном-единственном маленьком стихотворении. Но случись такое — полетела бы сломя голову в пропасть и напилась. После творческого взлета, чтобы не провалиться бог знает как глубоко, нужно с помощью своего же сильного характера, морали или уж не знаю чего еще очень крепко ухватиться за себя. Что за темная энергия движет мной? В самые плодородные, самые творческие моменты я чувствую, как одновременно с этим внутри поднимаются демоны и меня подстерегают сокрушительные, саморазрушающие силы. Это не обычное стремление к другому, к мужчине, нет, это нечто космическое, всеобъемлющее, неудержимое. Но я также чувствую, что даже в такие моменты способна взять себя в руки. Внезапно появляется потребность, опустившись в каком-нибудь тихом углу на колени, собраться и проследить, чтобы мои силы не затерялись в безбрежной бесконечности.
Примерно под вечер я поймала себя на том, что, словно барьером, была остановлена его прозрачным, светло-серым, всю меня объявшим взглядом и тяжелым, дорогим мне ртом. Под этим взглядом я на секундочку почувствовала себя защищенной. Но весь этот день я блуждала в каком-то бесконечном пространстве, где не было никаких сдерживающих границ, чтобы в конце концов дойти до той границы, где бесконечность становится невыносима и ты в отчаянии способен броситься в разврат. А в ясном, прозрачном, весеннем воздухе — темные, раскинувшиеся ветви. Проснувшись утром, я увидела за окном кроны деревьев, а днем, за широкими окнами нижнего этажа — их стволы. Красные и белые бутоны склонившихся друг к другу тюльпанов, благородный рояль, черный, таинственный и сложный, существо в себе, а за окнами — черные ветви на фоне светлого неба, и в отдалении — Рейксмузей. И S., то чужой, то родной, одновременно очень далекий и очень близкий, иногда вдруг страшный древний гном, потом снова добрый большой дядька за пирогом, а потом нежданно-негаданно вновь обольститель с теплым голосом, всегда другой, мой друг и опять же далекий мне человек.
26 апреля 1942. Сейчас это лишь маленькая красная увядшая анемона. Но спустя много лет я найду этот засушенный цветок между страницами книги и с легкой грустью скажу: смотри, эта красная анемона была в моих волосах в тот день, когда тому человеку — самому большому, незабываемому другу моей молодости — исполнилось 55 лет. И было это на третьем году Второй мировой войны. Мы ели макароны, купленные на черном рынке, и пили настоящий кофе, от которого Лизл «охмелела». Мы все были веселы и спрашивали себя, что будет с войной через год, на следующий день рождения. У меня в волосах была красная анемона, и кто-то сказал: «Ты сейчас — настоящая русско-испанская смесь». А один швейцарец, блондин с густыми бровями, добавил: «Русская Кармен», после чего я спросила, не прочтет ли он с его забавным швейцарским «ррр» стихотворение о Вильгельме Телле.
Потом мы опять прошлись по хорошо знакомым улицам южного Амстердама, но сначала поднялись посмотреть на его цветник. Тем временем Лизл быстро сбегала домой и надела плотно облегающее платье из блестящего темного шелка с просторными прозрачными лазурными рукавами и с такой же лазурью поверх маленькой белой груди. Она мать двоих детей. А такая стройная, хрупкая. И опять же: полна скрытых стихийных сил. И Хан тоже выглядел «элегантным» и предприимчивым, поэтому на его столовой карточке стояло: вечно молодой любовник, отец героини. Титул, который, посопротивлявшись, он все-таки принял. Лизл сказала мне позже: «В этого мужчину я бы могла влюбиться».
Но особенный отпечаток, по крайней мере во мне, этот вечер оставил вот почему: было уже примерно половина двенадцатого, Лизл в соседней комнате села к пианино, S. — перед ней на стуле, а я, стоя рядом, прислонилась к нему. Лизл что-то спросила, и мы вдруг оказались посреди дискуссии на психологические темы. Черты лица S. вновь стали очень выразительными, и он живо, с готовностью, которая никогда его не покидает, дал ей ясный, меткими словами выраженный ответ. Позади был долгий день с цветами и письмами, с людьми и беготней, с организацией обеда, на котором он сидел во главе стола, и потом вино, и опять вино, которое он не особенно хорошо переносит. Так что он должен был уже порядочно устать, но тут случайно кто-то задает вопрос о серьезных жизненных вещах, и его лицо становится сосредоточенным, он полностью уходит в это и мог бы уже оказаться за кафедрой перед внимательно слушающим его залом. Взволнованное личико Лизл над прозрачной лазурью смотрит на него большими глазами, и она с присущим ей трогательным заиканием говорит:«Это так потрясающе, что вы такой».
А я еще теснее прижимаюсь к нему, глажу его добрую, выразительную голову и говорю Лизл: «Ты знаешь, это, собственно, и есть самое сильное ощущение, связанное с S. У него всегда есть ответ именно потому, что в нем всегда покой и готовность к ответу. И поэтому проведенные с ним часы всегда полны глубокого смысла, с ним время никогда не расточаешь попусту». А S. взглянул как-то по-детски удивленно, с выражением, которое я все еще не могу описать и для которого уже год постоянно подбираю слова, и сказал: «Но ведь так происходит с каждым?» Он поцеловал маленькую Лизл в щеку, в лоб и притянул меня ближе к своим коленям, и я вдруг снова вспомнила слова Лизл, сказанные ею пару недель назад на ее солнечной крыше: «Хотела бы несколько дней провести вместе с тобой и S…». И я подумала тогда, что это могло бы быть неплохо. В этот момент появилась остальная компания, и мы начали обсуждать, остаться ли нам до четырех утра, но S. сказал: «Никогда не следует стремиться к крайности, всегда должно что-то оставаться для фантазии».
18 мая 1942. Внешняя угроза становится все сильнее, с каждым днем увеличивается террор. Как высокой, темной, защищающей меня стеной, я окружила себя молитвой. Уединившись в ней, точно в монастырской келье, я потом выхожу более «собранной», сильной, вновь овладевшей собой. Уход в закрытую келью молитвы становится для меня все большей реальностью, становится необходимостью. Эта внутренняя концентрация помогает из раздробленного состояния собраться в единое целое и возвратиться к себе. И я представляю, что придут времена, когда я дни напролет буду стоять на коленях, стоять до тех пор, пока не почувствую, что меня опять окружают стены, чья защита не дает мне, потеряв в себя веру, погибнуть.