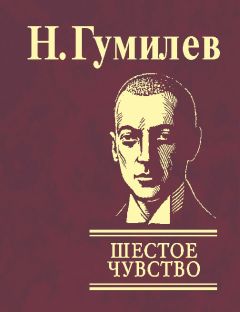Владимир Полушин - Николай Гумилев: жизнь расстрелянного поэта
— Действительно, интересная история.
— О, таких историй я мог бы рассказать об этом кафе много, — сказал Деникер. — Вон там играл в шахматы австрийский император Иосиф Второй, здесь сиживали мечтатель Дидро и романтик Ле Саж. И даже проигрывал в шахматы молодой корсиканский офицер Бонапарт…
Беседа незаметно перешла в другое русло, и Деникер стал рассказывать о писателях, которые объединились в группу «Аббатство» и провозгласили эру новой «научной» поэзии. Инициаторами стали молодые поэты: Жуль Ромен (которому исполнился двадцать один год), Жан Рене Аркос, Жорж Дюанель и Шарль Вильдрак.
— Разумеется, — говорил Деникер, — наш идейный вдохновитель — известный поэт Рене Гиль, вы о нем верно слышали.
Гумилёв внимал рассказам племянника Анненского с загоревшимися глазами. Особенно его заинтересовал тот факт, что молодые писатели сумели заполучить даже собственную типографию.
— Но почему так странно звучит название вашей группы? — спросил Николай Степанович.
— Мы создали в этом году коммуну, писательское братство, а поскольку местом нашего обитания стало аббатство Кретей под Парижем, мы провозгласили себя группой «Аббатство»…
Гумилёв подумал о том, что, может быть, здесь и ему можно будет издавать свой журнал. Нужно только установить хорошие связи с русскими писателями, проживающими в Париже. Ведь у него в кармане лежало еще одно рекомендательное письмо. И почему бы его не использовать? Настроение у молодого романтика поднялось. Ему уже казалось, что оккультные науки, которыми он хотел серьезно заняться в Париже, не стоят того, чтобы на них тратить время. Нужно писать — это главное.
В письме к сыну Анненского Николай сообщает: «Вы меня спрашиваете о моих стихах. Но ведь теперь осень, самое горячее время для поэта, а я имею дерзость причислять себя к хвосту таковых. Я пишу довольно много, но совершенно не могу судить, хорошо или плохо». Своему учителю Брюсову он признается: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».
Нет, Гумилёв не перестал смотреть на мир как на явление волшебства и вдохновения. Он понял, что надо идти не от мертвых к живым, а от последних в мир таинственных превращений.
Он наконец решает отправиться к знаменитой Зинаиде Николаевне Гиппиус, которая слыла основательницей нового христианского движения, утверждавшего равносвятость Плоти и Духа.
В 1901 году в Петербурге Гиппиус и Мережковский организовали Религиозно-философские собрания для открытого обсуждения вопросов веры между интеллигенцией, гибнущей «в отчаянии без Бога», и Церковью, чтобы обновить религиозное сознание. В 1903 году Собрания были запрещены. Но дом Мурузи, в котором жили Мережковский и Гиппиус, стал элитарным литературным салоном. Слышал многое об этом салоне и гимназист-царскосел Гумилёв.
Уехав после революционной смуты 1905 года в Париж, Мережковские поселились в одном из самых респектабельных парижских кварталов — в доме II-бис по улице Колонель Бонне в Пасси. С ними вместе жил и друг семьи Дмитрий Владимирович Философов. Сам Мережковский в ту пору увлеченно писал драму о Павле I и на время оставил стихи. Во второй половине ноября 1906 года в гости к Мережковским приехал из России Борис Бугаев, известный в русской литературе под псевдонимом Андрей Белый. Когда Белый уезжал, Брюсов советовал ему: «Если вам можно, познакомьтесь с Николаем Степановичем Гумилёвым… кажется, талантлив и, во всяком случае, молод». Дал Валерий Яковлевич и адрес поэта. Но Белый по рассеянности все сделал не так. Именно он пошел открывать дверь, когда раздался звонок Гумилёва.
— Вам кого? — оглядев незнакомца, спросил Белый.
— У меня рекомендательное письмо к Зинаиде Николаевне Гиппиус, — ответил молодой человек в модном цилиндре.
Белому, который вечно все забывал, терял и был рассеян до чрезвычайности, не понравился, видно, элегантный русский и он буркнул:
— Вы кто?
— Я? Николай Степанович Гумилёв, здесь учусь.
Тут бы Белому и вспомнить, что советовал ему Брюсов, но он сделал удивленное лицо:
— И что вы? Откуда?
— Я сотрудник журнала «Весы».
— Зина, — разочарованно протянул он, — к тебе молодой человек, говорит, из «Весов».
— Боря, ты его знаешь? — спросила появившаяся Гиппиус.
— Нет. Не слышал. Не знаю.
Гиппиус, видимо, была недовольна неожиданным визитером и весьма холодно обратилась к Николаю:
— Да, ну и что вы в Париже?
— Учусь в Сорбонне.
— Интересно, а о чем вы таком пишете? — Она хмыкнула, наведя лорнет на Гумилёва, который и так был бледен, как стена, от волнения. Его явно не хотели принимать, и он это почувствовал, потому и говорил о себе и своих взглядах подчеркнуто вызывающе и независимо.
— Ну, прочтите что-нибудь, — царственно бросила повелительница литературного салона. Явно издеваясь, добавила: — О чем вы там пишете, ну о козлах, что ли?
Гумилёв мог бы нагрубить и уйти, но он сдержался и сказал ледяным тоном:
— Хорошо. Я прочту.
Он специально выбрал одно из недавно написанных стихотворений и начал читать, чуть шепелявя:
Император с профилем орлиным,
С черною, курчавой бородой,
О, каким бы стал ты властелином,
Если б не был ты самим собой!
…………………………………………..
Образы властительные Рима,
Юлий Цезарь, Август и Помпей, —
Это тень, бледна и еле зрима.
Перед тихой тайною твоей.
Кончен ряд железных сновидений,
Тихи гробы сумрачных отцов,
И ласкает быстрый Тибр ступени
Гордо розовеющих дворцов.
Жадность слов в тебе не утолима:
Ты бы мог раскинуть ратный стан,
Бросить пламя в храм Иерусалима,
Укротить бунтующих парфян.
Но к чему победы в час вечерний,
Если тени упадают ниц…
Дальше Гумилёву дочитать не удалось, в комнату вплыла тень, и совсем не императора. Шаркающей походкой обозначился Дмитрий Сергеевич Мережковский и, окинув общество бесцветным взглядом, вдруг заволновался, увидев незнакомца:
— Зина, что там такое?
— Ты знаешь, Николай Степанович Гумилёв к нам пришел, мне показалось, он ученик Вячеслава Иванова или Сологуба, но ты знаешь, он все-таки напоминает мне французского поэта Бетнуара.
Мережковский недовольно повел плечом, не зная, что делать с руками, сунул их в карманы и, стоя у стены, начал его отчитывать в нос: