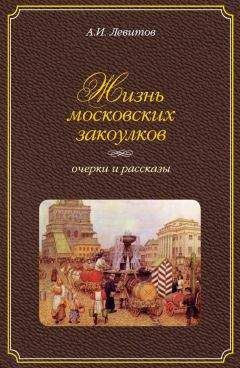Людмила Бояджиева - Андрей Тарковский. Жизнь на кресте
Авторы сценария ловко парировали нападки, говоря о духе истории, душе народа, великой силе искусства и прочих идеологически верных посылах их ленты. Но Тарковский не собирался снимать фильм о «народной тоске по братству» — русофильские настроения в историческом кино сильно приелись, да он вообще не был склонен к идиллическому мироощущению, тем более когда дело касалось кино.
Довольно примечательно, что в это же время развернулась грандиозная рекламная кампания вокруг экранизации «Войны и мира» Бондарчука. Съемки четырехсерийной эпопеи по коренному произведению русской литературы — в самом деле, событие огромное. Фильм ждала вся страна, подробные репортажи со съемочных площадок, интервью с режиссером и съемочной группой постоянно печатались в прессе.
Тарковский никогда не притязал на экранизацию романа Толстого: иллюстративная работа, даже добротная и тщательная, ему была чужда. Вот «Гофманиана» или нечто самостоятельное на базе Достоевского — это его территория, к осуществлению подобных замыслов он стремился всю жизнь. Но тем не менее ревностное чувство к фильму Бондарчука мучило его. Какой бы качественной ни оказалась эта экранизация, он намеревался снимать нечто совсем иное — свою собственную историю Руси, пронзительно трагическую, далекую от иллюстративной стилистики, притом предельно реалистическую по фактуре и основательную.
Картина, задуманная с эпическим размахом, требовала больших финансовых затрат. Уже первая прикидочная смета обнаружила, что на один первый эпизод — Куликовскую битву — уйдет практически треть выделяемых денег.
— Если вы согласитесь выбросить эту сцену из сценария, мы вас запустим, — категорически заявили Тарковскому в Госкино.
— Так ведь именно битва является камертоном всего фильма! — опечалился коллектив, выслушав рассказ Андрея о беседах с начальством.
— И каким образом тогда мы должны показать силу русского духа, которую они сами от нас будут требовать в первую очередь?! — присвистнул Андрон.
Подумали-подумали и решили согласиться — положение-то безвыходное.
— Мы убираем битву, — доложил Тарковский начальнику, глядя поверх его головы с безразличным взглядом. — Но должен предупредить — фильм лишится главной патриотической ноты.
— Но вы же можете усилить этот момент другими средствами!
— Другими, более дешевыми? Рисованными декорациями в павильоне, — иронично скривился Андрей.
— Да, декорациями! Полагаю, опыт Эйзенштейна в великом фильме «Иван Грозный» пойдет на пользу вашему фильму.
— Как раз от такого костюмно-исторического подхода мы и хотим очистить кино. «Иван Грозный» и «Александр Невский» — это же опера, театр! Картон и папье-маше. Все выглядит липово. Костюмно-музейный подход в исторических фильмах недопустим.
— Вы уж слишком резко рубите, товарищ Тарковский. А в случае сказки? Нельзя отрицать, что «Сказка о царе Салтане», с успехом идущая на экранах, — прекрасный фильм.
— Пф-ф… Говорить об этом фильме вообще не стоит. Липа, дурной театр, безвкусица! — Андрей начал входить в раж. — Настолько чудовищно, что фильм следовало бы запретить смотреть подрастающему поколению!.. А как грандиозно можно было бы его сделать!
— Надеюсь, костюмно-исторический подход Бондарчука к экранизации великого романа Толстого вы не считаете ошибочным?
— Дотошная экранизация бестселлеров мировой литературы — особый жанр. Полагаю, в данном случае он уместен. Но это не мой случай — изготовление киноиллюстраций.
Чиновник, уже было решивший, что Тарковский Куликовскую битву так просто теперь не отдаст, ослабил узел душившего галстука и постарался подпустить в интонации елея:
— И не надо вам иллюстраций! Не надо! Поставьте сказку — со всем размахом фантазии. После своей исторической хроники, — в тоне побагровевшего от ярости человека, сидевшего за начальственным столом, все же прозвучала настойчивость. — Без битвы!
— Без битвы, — с ненавистью проскрипел Андрей.
— Вот и ладушки! — заулыбался чиновник и пододвинул Андрею листок, — Пишите, Андрей Арсеньевич, расписку, что мы, мол, уложимся в миллион рублей, выбросив Куликовскую битву.
Изъяв из фильма одним росчерком пера целый героико-исторический эпизод, Андрей покинул кабинет.
Фильм был запущен. Первая экспедиция отправилась в Суздаль и Владимир — там и в окружающих деревеньках предстояло съемочной группе выстроить за счет выделенной суммы декорации. Подыскивали памятники архитектуры, имеющие отношение к XIV–XVI векам. Снимать решили на Нерли и в Пскове, Изборске, Печорах, в окрестностях которых нашлись и брошенные деревни, и спаленные храмы.
Сценаристы дотошно изучили исторические сведения. Поняв, что весьма скудные данные биографии Рублева, изобилующие, однако, тайнами и неточностями, дают простор фантазии, Тарковский торжествовал: он мог выстраивать историческую хронику по своим законам. Не историческую хронику, конечно же, а хронику его собственных впечатлений, прозрений о «реальных событиях» далекой эпохи. Реальных — значит снятых так, чтобы в их подлинности не возникало сомнений. Даже те события, что удалось определить в исторических документах, оказались частными случаями в эпическом полотне фильма. Довольно стройный сценарий, состоящий из фабульно-связанных эпизодов, превратился в хаос зарисовок, выстроенных по неким ведомым лишь самому Тарковскому законам формирования «реальности» XV века. Тарковский исходит из отрицания историзма, лубка, психологизма, живописи, легенды и всего, что не было отторгнуто его интуитивным видением. Отрицание общих мест, узнаваемого, музейно-исторического — закон, Тарковским самим над собой «поставленный». Отсюда главная забота кинематографистов о достоверности кадра, его некрасивости, неприглядной натуралистичности фактуры, не имеющей отношения к «искусству».
Кроме того, в построении фильма действуют законы обязательные: никаких сюжетных ходов, никаких логических действий. Невнятность, труднопроясняемые намеки, визуально завораживающий (или отторгающий) ритм кадра. Многовариантность, многослойность, которые сам режиссер толковать не брался. Он же никогда не пытался пересказать Бетховена или поэтическое произведение, но мечтал найти путь к запечатлению неких глубинных процессов, пробуждающихся в его душе под влиянием стихов или музыки.
В те годы достать хороший альбом живописи было задачей непростой, но у Андрея были отличные зарубежные издания. Они не пылились на полках, а лежали раскрытыми — Дюрер, Босх, Брейгель. Юсов вспоминает, как они играли в угадывание — оставляли открытым лишь маленький фрагмент картины, по которому надо было определить автора. Тарковский был «пропитан» живописными мотивами, как и музыкой Бетховена, которая постоянно звучала у него дома.