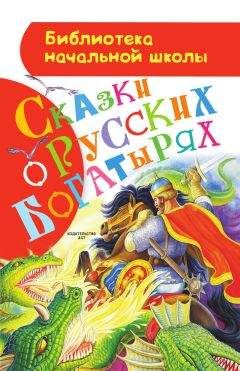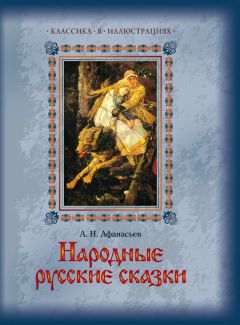Василий Осокин - В. Васнецов
Васнецов в этом письме признает справедливыми замечания Чистякова, сетует на свое «слабое знание и уменье в форме», говорит о необходимости тщательно наблюдать за собой, то есть за работой, и тогда «хоть воробьиным шагом, да можно двигаться».
Тяжелая гора свалилась с плеч художника. Он радовался как никогда ранее. Раз почувствовал главное в картине Чистяков — значит, и другие скоро поймут то, что пока еще для них сокрыто.
Трудный, связанный с большими переживаниями процесс создания «После побоища» — полотна, как показывает его анализ, совершенно новаторского, стал началом нового этапа в его жизни.
Те, кто видел художника в то время, замечали в нем эту перемену. Виктор Михайлович стал как-то строже на вид, собранней, возмужал. Осмысление своей дороги и письмо Чистякова, убедившее в правильности избранного пути, духовно укрепили его.
Из серьезной внутренней борьбы, которую никто, за исключением, может быть жены, и не подозревал в нем, он вышел закаленным, вышел победителем. Нет, он не отказывался от идеалов передвижников, он лишь нашел свою особую дорогу и вместе с ними честно и мужественно до конца послужит своей кистью народу.
В Лаврушкинском и на Caдово-Спасской
Васнецов, и Репин, и Поленов жили неподалеку друг от друга, в юго-западной части тогдашней Москвы: Васнецов — в 3-м Ушаковском, Репин — в Теплом переулке, близ Девичьего поля, Поленов — в Олсуфьевском, в старинном барском особняке с заброшенным тенистым садом. Ушаковским переулком можно было выйти на Пречистенку и, минуя Зубовскую площадь, через несколько минут подойти к дому Олсуфьева.
Репин и Поленов, переселившиеся в Москву ранее Васнецова, уже были поглощены московскими темами. Репин в Новодевичьем монастыре писал свою «Царевну Софью». Поленов увлекся архитектурой и особенно интерьерами — внутренним убранством московских теремов. Низкие, тяжело нависшие сводчатые потолки и перекрытия, стены, разукрашенные бесхитростными, наивными орнаментами старины, тихий полумрак, едва озаряемый светцом или лампадкой, — вот что привлекало художника. В нем боролись тогда два пристрастия: пейзаж и жанр. Работая над интерьерами теремов, он хотел воскресить обстановку, в которой медленно протекал однообразный быт царевен и боярышен.
«Постоянно общались только с Репиным и Поленовым…», — вспоминала о первых месяцах московской жизни Александра Владимировна Васнецова. Третьим лицом, к которому Васнецов частенько заходил, был Павел Михайлович Третьяков.
Мимо грандиозного храма Христа Спасителя Васнецов шел на Каменный мост. По левую сторону выступали башни и золотые главы Кремля, а впереди в невысоких, уютных, большей частью деревянных особняках, с кучками всевозможных хозяйственных пристроек, с дворами и садами, расположилось замоскворецкое купечество.
Тут, в незаметном и ничем не отличном от соседних закоулков Лаврушинском переулке, стоял просторный дом Павла Михайловича Третьякова.
Васнецов мельком видел Третьякова еще в Петербурге. В его галерее уже было несколько работ художника. Все же знакомство его с Третьяковым, по существу заочное, возобновилось не без участия Репина и Поленова, рекомендовавших Васнецова с самой лестной стороны. Осторожный, внешне суховатый Третьяков разборчиво относился к новым знакомствам, но с Васнецовым сошелся скоро и близко. Он угадал в нем и бурно развивавшийся талант, и сердечную простоту, и искренность, и честность. А уж если Павел Михайлович сходился с таким человеком, это значило — дружба на всю жизнь.
Все русские художники считали за честь, когда их произведения покупал сам Третьяков. Во-первых, это означало, что картина действительно высокохудожественна — вкус редко подводил Павла Михайловича. Во-вторых, он давал цену, достойную вещи. И третье, главное, очень важное для художника — свою картину он мог видеть в собрании Третьякова когда угодно, тогда как другие владельцы далеко не охотно и далеко не всегда раскрывали перед автором двери.
Влекла Виктора Михайловича к Третьяковым и превосходная игра на фортепьяно хозяйки дома Веры Николаевны и ее дочери.
Никогда раньше не имел он такой возможности — слушать сколько угодно музыку — и, задумчиво подперев голову, сидел не шелохнувшись. С тех пор Васнецов особенно полюбил величавые аккорды Баха, светлую, солнечную музыку Моцарта, философскую глубину творений Бетховена.
Вечер опускался над Замоскворечьем. За приподнявшейся шторой видно было, как теряли очертания, растворялись в фиолетовой мгле дома и церковки, заборы, амбары и будки. В соседних комнатах, тоже темных, чуть мерцали позолоченные рамы картин.
Каким-то особым уютом веяло от дома Третьяковых. «У нас Виктор Михайлович бывал часто, заходил днем из галереи, а больше вечером. Он бывал почти на всех музыкальных вечерах, которые ценил и любил», — вспоминает дочь Третьякова, Александра Павловна.
Вера Николаевна сделала о нем такую запись:
«…Нежный, благородный блондин, глубокая натура, много работавший над собой человек с поэтичной, нежной душой. Последнее его лучшее произведение вполне характеризует его: «Слово о полку Игореве»[8]. У нас в галерее».
В этих строках чувствуется большая теплота.
Как-то Репин привел смущенного Васнецова в дом двоюродного брата Веры Николаевны Третьяковой — Саввы Ивановича Мамонтова, на Садово-Спасской. О богатстве, широте натуры, уме Мамонтова ходили по Москве легенды.
Васнецов долго и тщательно отряхивал в передней от снега свои калоши, пока, наконец, потерявший терпение Репин не взял его под руку и не повел прямо в кабинет хозяина. Распахнув дверь, навстречу выбежал Мамонтов. Ни слова не говоря, он подхватил Васнецова с другой стороны и повел еще куда-то дальше.
Мамонтов, по словам самого художника, поразил его даже своей наружностью: «Большие, сильные, я бы сказал, волевые глаза, вся фигура стройная, складная, энергичная, богатырская, хотя среднего роста, обращение прямое, откровенное — знакомишься с ним в первый раз, а кажется, что уже давно был с ним знаком».
Пока шли широким коридором, Васнецов удивлялся странным звукам, раздававшимся из всех комнат. Их можно было сравнить лишь со звуками, обычно царящими в театре в часы репетиций. Там поют, там декламируют, здесь играют на трубе, а здесь строят и приколачивают декорации. И, как на сцене, пахнет красками и свежим деревом.
— Вот, ребятушки, воистину: ничего не добивайся, ничего не домогайся, все придет само собой! — кричал Мамонтов, втаскивая Васнецова в какую-то комнату. — Бегаю, ищу целый день, а Мефистофель — вот он, сам припожаловал.