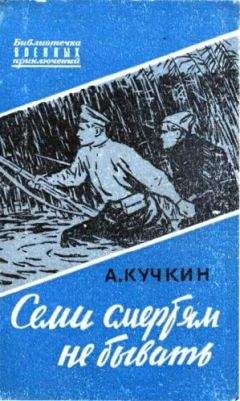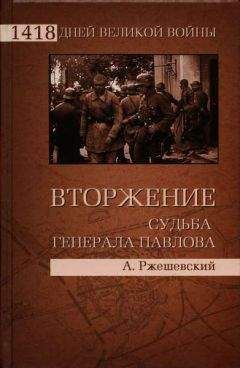Е. Бурденков - Большевик, подпольщик, боевик. Воспоминания И. П. Павлова
Летом 1914 года мы с Кормушкиным много времени проводили на охоте. Уходили в ночь, возвращались только на другой день поздно вечером. Охотились с азартом и дичи добывали много. Большей частью стреляли уток в камышах, набивали их штук по 20–30. Сколько раз проваливались в ямы с головой! Большое это было удовольствие, незабываемое. Хотя порой и опасное – однажды Кормушкин угодил мне дробью в спину, но меня спасла толстая кожаная куртка. После охоты, мокрые и грязные, шли к знакомому башкиру-рыболову Он поил нас чаем, а мы его – водкой. Охота как-то не утомляла. Вечерами вместе с Фиониным, Тимофеевым и телеграфистом часто ходили купаться на верхний пруд, а после подолгу беседовали на политические темы. Я, главным образом, доказывал им необходимость вооруженного восстания для взятия власти.
С началом первой мировой войны, осенью 1914 года все мы были взяты в царскую армию. Меня скоро отправили на фронт, Вася Тимофеев попал в школу прапорщиков и, как и телеграфист, тоже потом воевал. Фионин состоял писарем в запасном батальоне. Я с ними переписывался, и снова мы встретились в Уфе только в конце 1917 года. Василий стал большевиком и погиб в гражданскую войну комиссаром, Фионин превратился в крупного военного, а потом советского работника, братья Пономаревы тоже воевали на стороне Советов. Кто знает, может быть, мои беседы с ними в Языкове отчасти стали тому причиной. Кто знает…
В царской армии (1914–1917)
В конце октября 1914 года по повестке воинского начальника мы, языковцы, явились в Уфу и там получили назначение в 144-й запасный батальон, который готовил и отправлял маршевые роты на русско-германский фронт. Нас сразу же разлучили – Василия [Ананьина-Тимофеева] отправили в уфимскую школу прапорщиков (на фронте он потом командовал ротой), а остальных распределили по разным ротам. Я попал в 8-ю. Уфимцам в первое время разрешали ночевать дома, и мы с Фиониным спали на полу в избушке моей матери (позже нас поротно разместили по городским школам). При формировании рот требовалось много писарей, каптенармусов, артельщиков, а грамотных среди призывников было мало. В итоге я, как грамотный, попал в ротные писаря.
Почти каждый вечер я бывал у сестер Тарасовых, к которым приходили Арцибушев, Коковихин, Мызгин. Мы обсуждали политическое положение, знакомились с указаниями центра. Часто собирались у Шашириных и у Короткова. Благодаря этим собеседованиям, я был в курсе политических событий, представлял ход войны, ее закулисные стороны, знал отношение к ней нашей партии и старался донести эти идеи в солдатскую массу. Среди солдат, конечно, преобладали крестьяне, но были и рабочие, и мелкие служащие, вроде приказчиков. Наши беседы о ненужности этой войны для простых людей находили у них живой отклик. Я приносил в казарму и прокламации, которыми снабжал нас «Петруська»-Мызгин. Обстановка для агитации была благоприятная – в казарме процветали порка, мордобой, зуботычины. Этим особенно отличался один фельдфебель, немец по национальности. Солдаты прямо ему говорили: «Подожди, немецкая сука, поедем на фронт, первая пуля будет твоя, а вторая – твоим сородичам». Может быть поэтому этого немца вскоре убрали. Сначала я работал в одиночку, но со временем мне стали помогать старший писарь Ульянов и каптенармус, оба – рабочие Белорецкого завода. Первый был беспартийным, а второй, как оказалось, – меньшевиком.
У Шашириных и у Тарасовых много спорили на теоретические темы, особенно Арцибушев с Михаилом Коковихиным. Арцибушев был ленинцем, а Коковихин тогда почему-то отстаивал точку зрения Богданова[77]. Он всегда был ярым противником боевых дружин, которые организовывались по прямой директиве Ленина и по решению Третьего съезда партии. И сейчас, почти полвека спустя, Коковихин убежден в своей правоте. Недавно я читал его рукопись об истории Миньярской с.-д. организации, где он высказывается резко против боевых дружин, критикуя их с точки зрения пропагандиста – на что я и указал в своей рецензии. А вообще-то это был крупный партийный работник, грамотный, начитанный. Учился в школе пропагандистов на Капри, потом в Париже, у Ленина.
Наступил 1915 год. К началу февраля была сформирована очередная маршевая рота в 250 человек. Солдатам выдали новое обмундирование, назначили взводных командиров, фельдфебеля; роту стали обучать уже отдельно от остальных. Командиром роты был назначен подпоручик Савицкий, который только что закончил юнкерское училище. Меня в списках роты поначалу не было – «свои» люди шепнули, что меня собираются оставить при штабе батальона, и в интересах подпольной работы это меня вполне устраивало. Но в начале марта Савицкий сообщил, что я тоже еду на фронт – в офицерском вагоне, в качестве ротного писаря. Я тут же отправился к Арцибушеву за директивами горкома партии, на другой день получил его «добро» и снялся с партийного учета. Мне было сказано: «Поезжайте. Вы там, а мы здесь будем делать одно дело. Наше место там, где народ».
Дорогой Савицкий рассказал, почему меня не оставили при штабе батальона, предварительно сообщив, что сам он – социал-демократ-меньшевик. Оказалось, что в Уфе меня узнали шпики и внимательно за мной приглядывали, благо штаб моей роты помещался прямо напротив сыскного отделения. К тому времени я уже больше двух лет жил легально и от слежки не берегся настолько, что порой нахально заходил в сыскное позвонить, пока в роте не было телефона. Сыщики без труда установили, что я служу ротным писарем, и сообщили об этом «по профилю» – в Губернское жандармское управление (сами они занимались уголовниками), которое, в свою очередь, направило нашему генералу подробную справку о моем революционном прошлом. Называя меня «крайне неблагонадежным», жандармы требовали отправить меня на фронт с ближайшей маршевой ротой и там «содержать только в окопах». Эту справку Савицкий мне в поезде и предъявил. С такой «путевкой в жизнь» я попал на фронт.
До Варшавы мы ехали по железной дороге, а потом уже пешком отправились на позиции. Все десять дней в Варшаве мы сидели в казарме – в город не пускали – и вели бесконечные разговоры. Я рассказывал о декабристах, читал Некрасова, пересказывал Чехова, Горького, но главной темой, конечно, была война. Хотя никто из моих собеседников воевать не хотел, открыто высказываться в антивоенном духе было невозможно. Свою принадлежность к большевикам я открывать тоже не имел права, и потому вел политические беседы самого общего порядка. На позиции пришли грязные и измученные – в марте в Польше уже жарко, почва песчаная, шли с полной выкладкой по щиколотку в пыли. На месте Савицкому дали другую роту, и он в нее забрал несколько человек, включая меня. Мы попали в резерв 2-го батальона 147-го пехотного полка, жили в палатках на берегу Вислы, против городка Червинска, в паре километров от передовой. Немцы нас обстреливали шрапнелью, но как-то лениво, и мы частенько плавали на лодках в Червинск за французскими булками. Сам Савицкий вскоре заболел и был отправлен в госпиталь.