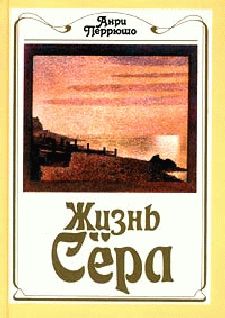Анри Перрюшо - Жизнь Сезанна
Огюст Ренуар. Автопортрет в 35 лет.
Эти молодые люди, еще совсем недавно в той или иной степени одиночки, приободрились, почувствовав себя близкими друг другу во всем: и в том, что их восхищало, и в том, что их отталкивало. В этих пылких головах воинственный дух Золя, которого Сезанн привел в мастерскую, вызывал брожение. Золя любит атмосферу боя, терпкое веяние будущего, от которого ширится грудь. Спорят. Горячатся. Бросают вызов. Клянутся только именами Делакруа, Курбе или Мане. Потешаются, пересказывая друг другу слова официальных мэтров, в частности Глейра. Поправляя как-то этюд Моне, он сказал: «Неплохая вещица, право, неплохая, но слишком уж в характере модели. Перед вами коренастый человек: вы и пишете его коренастым. У него огромные ноги: вы и пишете их огромными. Но ведь это уродливо! Запомните, молодой человек, изображая человеческую фигуру, нужно всегда мысленно представлять себе античный образец». Сезанн, чью необщительность это воинствующее братство весьма поумерило, грохоча своим раскатистым «р», мечет громы и молнии против преподавателей: «Пустое у них нутрро». В знак протеста он напяливает на себя красный жилет – дань романтизму – и, к ужасу Золя, решительно отправляется на бульвар, где укладывается спать на скамье, положив под голову башмаки вместо подушки. Так он развивает в себе боевой задор.
Сезанн нередко заходит поесть в скромную молочную, посещаемую учениками мастерской; муж хозяйки молочной – золотарь. Сезанн просит его позировать ему. Золотарь отказывается, ссылаясь на то, что «занят по горло». «Но ты же работаешь по ночам, – возражает Сезанн, – днем ведь ты ничего не делаешь». – «Днем я сплю», – отвечает золотарь. «Ну что ж, буду писать тебя в постели!» – не сдается Сезанн. Надев ночной колпак, золотарь залезает под одеяло, но вскоре, рассудив, что между друзьями церемонии излишни, снимает колпак и, отбросив одеяло, позирует нагишом. Сезанн пишет с него картину до ярости реалистичную; он изображает хозяйку молочной, подносящую мужу чашку горячего вина. Каждый, кто хочет заставить «институт покраснеть от бешенства и отчаяния», может позавидовать сарказму этого прекрасного полотна. Гийеме придумал ему название: «Полдень в Неаполе», или «Грог».
Золя, которого все это брожение не может не побуждать к действию, как-то в субботу вечером осмеливается положить на письменный стол Луи Ашетта, директора фирмы, рукопись своих стихов. В понедельник директор вызывает Золя к себе. Ашетту[50] сейчас шестьдесят три года, в юности, протекавшей в годы Первой империи, ему жилось тяжело. Отец его разорился, и мать, недолго думая, поступила прачкой в Императорский лицей, чтобы иметь возможность поместить сына в это закрытое учебное заведение. В 1819 году Луи Ашетт был принят в Высшую нормальную школу, которую кончил с золотой медалью. Под его энергичным руководством фирма, созданная им в 1826 году на улице Пьер Саразен, непрерывно расширяется. Луи Ашетт прочел рукопись Золя. О его стихах он отзывается благосклонно. Напечатать их он, к сожалению, не может, но поощряет Золя развивать свое дарование и советует ему писать прозу, а в доказательство того, что все это не пустые слова, повышает ему жалованье на двести франков. Растроганный Золя с жаром берется за перо.
Свой вертеп на улице Суффло Эмиль давным-давно оставил. С тех пор он уже успел один или два раза переменить местожительство. В июле он снял трехкомнатную квартиру в доме № 7 по улице Фейантин. Из потребности в дружбе и теплом единении, из потребности быть окруженным, как отец детьми, людьми, которые одинаково мыслят, горят одними и теми же желаниями, он взял за правило каждый четверг собирать у себя за ужином всех своих приятелей. Приходи кто хочет: всем найдется место за столом. Парижские друзья – Сезанн, Байль, Шайян, Гийеме, Писсарро – и приезжие из Экса постоянно встречаются на этих трапезах. Кормят тут, разумеется, не до отвала, а вино никому не возбраняется разбавлять водой по своему усмотрению. Но веселятся здесь вовсю. Споры идут своим чередом. Что для гостей дома сего земная пища, когда они изголодались по успеху и «славе», как утверждает сам Золя. Искусство, литература, эстетические теории – вот единственные темы, которые они обсуждают, подогревая свое честолюбие, делясь мечтами, в беспредельном упоении заражаясь один от другого шумной восторженностью. В такие вечера, в такие ночи – ужины затягиваются допоздна – Золя весь расцветает. Для него эти шумные трапезы своего рода ночное бодрствование накануне боя, а вся эта сутолока как бы предвестница грядущей победы.
В один из четвергов Байль и Сезанн приходят на улицу Фейантин в сопровождении юного земляка, с которым они в свое время встречались под платанами экского Бульвара. Он из зажиточной семьи, ему девятнадцать лет. Учился он сперва в Эксе, затем в Париже, потом снова в Эксе, но всегда и везде блестяще. Однако он никак не решит, какую профессию ему избрать. Единственное, к чему его влечет, что его занимает, – это искусство и литература, анализ художественных произведений и человеческих характеров, а главным образом поэзия (им сложены десятки сонетов, стансов и вообще множество стихов). Время от времени, стремясь окунуться в столичную атмосферу, он ненадолго приезжает в Париж. Своей созерцательной, несколько женственной натурой Антони Валабрег – таково имя этого юноши – с первой же минуты понравился Золя. Он заклинает его поскорее переселиться на берега Сены, чтобы тут вступить в схватку, начать сражение бок о бок с Сезанном, Гийеме, Писсарро – «все в одной упряжке», – как говорит Золя, бок о бок со всеми, у кого голова идет кругом от надежд, со всеми, кто по-братски держится за руки. Чем их будет больше, тем лучше, ведь они собираются завоевать Париж! Ибо завтра, Золя торжественно в том клянется, этот великий, огромный, ревущий Париж, где ни на минуту не смолкает жизнь, будет ими поставлен на колени.
Вечер кончился, ушел последний гость, Золя открывает окна: пусть выветрится густой дым трубок; вдыхая ночную свежесть, он, сияя радостью, взором Растиньяка окидывает с высоты четвертого этажа уснувший город.
* * *1863 год на исходе. Сезанн работает не покладая рук. Он зачастил в Лувр: это его школа. В те времена Лувр посещало много копиистов; вся большая галерея сплошь была заставлена их мольбертами. Сезанн иногда тоже приносит с собой мольберт, но чаще всего он приходит сюда размышлять перед великими творениями и ограничивается тем, что делает беглые зарисовки. Между прочим, не меньше, чем произведения живописи, приковывает его внимание скульптура, в особенности монументальные поэтичные композиции того же Микеланджело или Пюже. «Вот уж от кого разит чесноком, так это от Пюже!»; «В творениях Пюже чувствуется мистраль; это он дает движение мрамору». Всю зиму Сезанн копирует картину Делакруа «Ладья Данте». «Возможно, он хочет таким образом воздать должное старому мэтру, гению, который недавно, на шестьдесят шестом году жизни, скончался в полном одиночестве»[51]. Дань немого и горячего преклонения. Человек умер, но дело его живет. Делакруа навсегда останется незабываемым образцом.