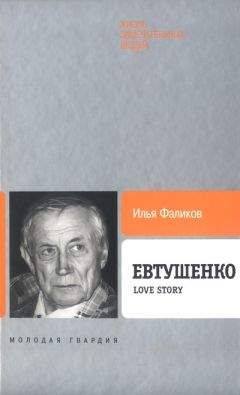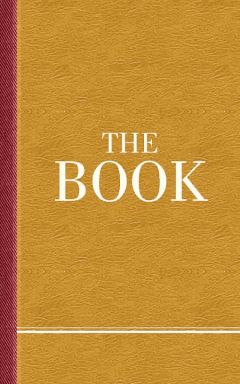Илья Фаликов - Борис Рыжий. Дивий Камень
— Дело благое. Но надо предвидеть и некоторые трудности…
— Да уже не предвижу, а вижу — фигура непростая.
В огромной комнате, точнее сказать — в зале, мы сидели с Александром Леонтьевым за небольшим круглым столиком.
— Вы полагаете, Борис равен Лермонтову?
— Почему бы и нет?
Борис Рыжий («Царское Село»):
Александру Леонтьеву
Поездку в Царское Село
осуществить до боли просто:
таксист везёт за девяносто,
в салоне тихо и тепло.
«…Поедем в Царское Село?..»
«…Куда там, господи прости, —
неисполнимое желанье.
Какое разочарованье
нас с вами ждёт в конце пути…»
Я деньги комкаю в горсти.
«…Чужую жизнь не повторить,
не удержать чужого счастья…»
А там, за окнами, ненастье,
там продолжает дождик лить.
Не едем, надо выходить.
Купить дешёвого вина.
Купить и выпить на скамейке,
чтоб тени наши, три злодейки,
шептались, мучились без сна.
Купить, напиться допьяна.
Так разобидеться на всех,
на жизнь, на смерть, на всё такое,
чтоб только небо золотое,
и новый стих, и старый грех…
Как боль звенит, как льётся смех!
И хорошо, что никуда
мы не поехали, как мило:
где б мы ни пили — нам светила
лишь царскосельская звезда.
Где б мы ни жили, навсегда!
Это было не первое посвящение другу Александру. Они познакомились в Москве на совещании молодых поэтов в 1994-м. Леонтьев обитал сразу в двух городах: в Питере, где родился, и в Волгограде, куда его отвезли в детстве. Он предпочитал историческую родину — берега Невы. Где и бросил якорь.
Мгновенно сблизились, началась переписка. Борис явился в Питер уже в том же году. Он остановился в маленькой академической гостинице на улице Миллионной, в то время улице Халтурина. Там он пребывал каждый раз, его приезды оформлялись как научные командировки от аспирантуры, не без участия отца, разумеется. В каморке гостиничного номера клубился дым, потреблялись напитки, в основном вино (разное, недорогое) и пиво («Балтика-6», «Портер»), текли пространные речи о поэзии, читались стихи, назывались имена. Бывали в гостях, в компаниях собратьев читали стихи по кругу, импровизировали: строчку — Борис, строчку — Саша. Накопилась куча стихов-посвящений Бориса, претерпевших разные редакции. Ходили в Новую Голландию, на Пряжку — к Блоку, на Литераторские мостки, на кладбище Александро-Невской лавры, где лежат Боратынский, Вяземский, Жуковский. Появился в знакомствах первый иностранец — Ханс Боланд, переводчик, жил на канале Грибоедова, много лет преподавал голландский язык в университете, позже — переводил стихи Бориса.
Конечно же все эти годы блистало и имя Мандельштама, чье «Поедем в Царское Село!» напрямую обыгрывается в «Царском Селе» Рыжего.
Тот же Мандельштам — и в «Элегии» 1998 года:
…И вечно неуместный, как ребёнок,
самой природы вечный меньшевик,
я руку жал писателям, поэтам,
пил суррогат в посёлке приисковом,
кутил, учился в горном институте,
печатал вирши в периодике.
Четыре года занимался боксом,
а до того ещё четыре года —
авиа-моделированием.
Лечился. Пил. И заново лечился.
— Ты должен быть авиамоделистом, —
мне говорил Сергей Петрович Комов.
— Ты должен стать боксёром, — говорил
мне чемпион Европы А. Засухин.
И приглашал меня в аспирантуру
Иосиф Абрамович Шапиро.
А некто Алексей Арнольдыч Пурин
сказал: вы замечательный поэт.
Я жить хочу. Прощайте, самолёты.
Висите на гвозде, восьмиунцовки.
И крепко-крепко спите под землёй,
мои месторождения урана.
Стихи, прощайте. Ждёт меня тайга.
Два трогательных ангела над драгой.
«Восьмиунцовки», говорю для непосвященных, это такие боксерские перчатки (весом восемь унций).
Рыжий всегда писал многоуровнево, многосоставно — при всей внешней простоте. Здесь мы найдем не только мандельштамовского мохнатого деятеля («Полночь в Москве», 1932):
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик,
но и отзвук Михаила Кузмина, действительно гениально звучащего:
Венок над головой, открыты губы,
Два ангела напрасных за спиной.
Не поразит мой слух ни гром, ни трубы,
Ни тихий зов куда-то в край иной.
У Рыжего есть стишок «Два ангела» (1996):
…Мне нравятся детские сказки,
фонарики, горки, салазки,
значки, золотинки, хлопушки,
баранки, конфеты, игрушки.
…больные ангиной недели,
чтоб кто-то сидел на постели
и не отпускал мою руку —
навеки — на адскую муку.
В принципе, у него не раз встречаются некие «два ангела» («два ангела за чаем», «два ангела — Серега и Андрей»), в данном случае это скорей всего сказано о своих сестрах, а вот этих двух людей — Леонтьева да Пурина — в некоторой степени можно было бы и отнести к его двум питерским ангелам-покровителям, но какой уж там покровитель из Леонтьева — лишь на четыре года старше, ни имени, ни книг, но уже печатался в «Звезде», а в том журнале ведает поэзией как раз Пурин, Алексей Арнольдович. Виртуозный поэт, кстати.
Некоторые подробности этих отношений — в письме Алексея Пурина ко мне (сентябрь 2014-го):
В первый же день мы с Б. Р. повздорили (вероятно, он услышал покровительственные нотки в моем голосе; на следующий день нас помирил Саша <Леонтьев>). С этим смешным событием связан мой стишок, опубликованный позже, кажется, в «Октябре» с инициалами в посвящении, на что Б. Р. все же обиделся и сочинил стих-ние «Почти случайно пьесу Вашу…». <…>
Его бесило (конечно, это я узнал потом — из писем Б. Р. к А. Л<еонтьеву>), что первая подборка была напечатана лишь через год (вообразите!), а вторая тоже тянулась, но так и не была опубликована в «Звезде»: в расширенном виде он отдал ее Ольге Юрьевне (Ермолаевой. — И. Ф.), когда и у нас все решилось в его пользу. Да и альманах «Урби» (наш) его напечатал. <…>
У меня есть некоторое количество его писем. Публиковать их невозможно: они полны нелестных высказываний о третьих лицах. Я читал его письма «третьим лицам», там есть много крайне нелестных высказываний обо мне. <…>