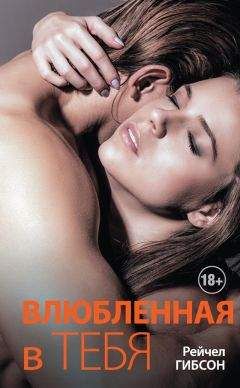Валентина Малявина - Услышь меня, чистый сердцем
Рая, как всегда, смачно ругнулась и подытожила:
— Кому-то нужно, чтобы ты сидела. Да… дела…
Потом спросила:
— Валюшк, можно я кота возьму?
— Не мешай ему дремать, — заступилась за кота колючеглазая.
— Ага, скоро его заберут… Я только поглажу его. Кисонька, хорошая… — гладила кота Рая-мальчик.
Красивая Катрин улыбнулась.
— Все у тебя наоборот, Раиса. Это кот, а не кошка, стало быть, не кисонька хорошая; а котик хорошенький. Себя ты тоже путаешь. Ты — женщина, а говоришь: «Я попил, я поел, я умылся». А как надо говорить? «Я умылась, я поела…»
— Отстань ты от нее, — колючеглазая строила рожицы Катрин, мол, не надо обижать Мальчика. А Мальчик и не обижался.
— Я в детдоме привык, что я — он. И в девочку был влюблен. Она в меня.
— И что? — Катрин красиво поправила свои чудесные светлые волосы.
— Приедешь на зону, узнаешь, — скалилась Валя.
— Тебе не избежать их.
— Кого — их? — любопытничала Катрин.
— Нас, — серьезно пояснила Мальчик.
— Ну ладно, девки, будет. На зоне обо всем договоритесь, — стреляла колючими глазками Валя.
— Хорошо бы попасть на зону? А? — мальчик Рая не отводила взгляда от Катрин.
— Да ну тебя… — кокетливо отмахнулась та.
А колючеглазая размечталась:
— Скорей бы на зону… Там в столовой пристроюсь… Хорошо!
— Страшно, — процедила Нина. — Говорят, что страшно на зоне.
Валя пожала плечами.
— Ну почему страшно-то? Нет, не страшно. Работы, конечно, много… законы свои… He-а, не страшно. Тебе-то что бояться? Поставят бригадиром или еще кем-нибудь назначат…
— А почему ты думаешь, что бригадиром меня поставят? — осторожно спросила Нина.
Колючеглазая было открыла рот для ответа, но осеклась, не стала объяснять.
А объяснение простое: «курухи» в тюрьме, они и на зоне стучат, да и на воле приспосабливаются и промышляют доносами и сплетнями.
Я-то остаюсь убежденной, что все пороки сопряжены с завистью. Так? Ведь так?
…Завтра опять ни свет ни заря вставать…
…Завтра опять выезжать в суд.
И когда все это кончится? Неужели вправду хотят меня посадить?
8
«Союз нерушимый республик свободных…»
Радио по утрам громко, очень громко поет. Тише сделать невозможно. Принудительная трансляция — так это называется.
Девочки зашевелились. Скоро проверка. Я ожидаю вызова.
— Малявина! С вещами!
В суд ехала с цыганками. Дорогой много говорили.
— Отчего вы кочуете до сих пор? — спрашиваю.
— Родину ищем.
— Индию?
— Да.
— Но ведь вы теперь знаете, где она.
— Знаем.
— И что же?
— У нас две родины. Россия — тоже родина. В России к цыганам хорошо относятся.
— Да-да, — улыбаюсь. — И к вам, и ко мне очень хорошо отнеслись.
— То власть. А не люди.
Парень в «обезьяннике», то бишь в другом отсеке, сидит на полу, подпрыгивает, как будто машина не по Москве движется, а по проселку. Сидит босиком. Жарко очень. Кроссовки стоят рядом. На ступнях у парня наколки — погоны милицейские. Ноги вытянул, сам серьезный такой.
Цыганка мне глазами показывает на босые ноги парня.
Он заметил, что нас заинтересовали его «погоны», но по-прежнему оставался очень серьезным.
Прав Гоголь: в основе смеха лежит несоответствие. Серьезность парня, который и бровью не повел в нашу сторону, и его ступни с милицейскими погонами рассмешили и меня, и цыганок. Конвоир тоже расхохотался.
А из «стаканчика» «особо опасный» преступник, наглухо запечатанный, спрашивает:
— Чего ржете-то? А?
Мы пуще прежнего смеемся.
— Ну расскажите! А то сдохнуть в этом «стакане» можно.
А как рассказать? Да и неловко вроде бы.
Парень с «погонами» неожиданно веселым голосом спрашивает:
— Как тебя звать-то?
— Кого? Меня? — донесся голос, как из бочки.
— Да. Тебя.
— Мишей.
— И я Миша. Понимаешь, тезка, последний раз меня загребли из-за того, что я ментовские погоны нарисовал на ступнях своих ног. Следовательно, я топчу ногами их погоны. Понял?
— Ну? — делово интересничал Миша из «стакана».
— Ну и вот… лежу я на пляже в Серебряном бору, загораю… Забыл я про погоны-то, не видел, что менты по пляжу разгуливают. В нирване был… Ну, они мне хорошенечко напомнили про них.
— Ага. Ты пьяный был? Да?
— А как же? Во хмелю!
— Дрался с ними?
— В натуре.
Конвоир сделал строгое лицо.
— Прекратите разговоры. — И тут же спросил: — Тебя по «хулиганке» взяли или за погоны?
Миша из «стакана» возражал:
— Нет такой статьи, чтоб за погоны взяли.
Дед смешной наружности разворчался:
— Ты еще флаг советский наколи… Или из ЦК кого-нибудь нарисуй и топчи… Это надругательство, вот что это.
— Плохо то, что он с ментами подрался, — размышлял Миша из «стакана». — А сам-то как думаешь?
— А чего теперь думать? — спокойно сказал Миша с «погонами». — Теперь все равно. Лета жалко. К морю хотел. А так… что… привык уже. Да, дед?
— Да, — вздохнул дед. — Кабы не жара, то и ничего… Привыкли уже.
В зале судебного заседания в первых рядах все те же зрители, в основном дамы. Конечно, и Инна Гулая здесь. Таня и Сережа чуть поодаль. Танюшка показывает мне, что, мол, я хорошо сегодня выгляжу. Ну и слава Богу!
Выступает Наташа Варлей.
Я ее знаю давно. Наташа училась в нашем институте. Она была очень популярна после фильма «Кавказская пленница», но всегда оставалась скромной.
И сегодня она тихая, сосредоточенная. Я уверена, Наташа будет правдивой в своих показаниях. Чувствуется, что она верующая.
Они подружились со Стасом на съемках фильма Бориса Фрумина «Ошибки юности».
Стас очень хорошо относился к Наташе и все удивлялся:
— Валена, как же так? Она — звезда, а у нее столько забот. Я понимаю, что она очень любит своего сына, но нельзя же все хлопоты брать на себя. Поди, в Америках она была бы ого-го-го!
Как-то он сказал мне:
— Мы с Витей Проскуриным к Наташе Варлей пойдем, и ты приходи после спектакля.
Наташа жила рядом с Арбатской площадью.
Прихожу. Стас прямой, как струна, встречает меня, улыбается, важничает, не скрывает того, что ему несказанно приятно в нашем с Наташей обществе.
Витя уже уходил домой, а мы остались. И как-то так получилось, что мы с Наташей говорили вдвоем. Беседовать с ней очень интересно. И так вышло, что Стасу мы почти не уделили внимания.
Я не заметила, что он сник, а когда вышли на улицу, он и вовсе не разговаривал со мной. К дому пошли пешком, и тут я заметила его неважное настроение, но не стала ни о чем спрашивать, потому что настроение Стаса быстро менялось. От веселости к задумчивости, а порой и к сердитости был один шаг.