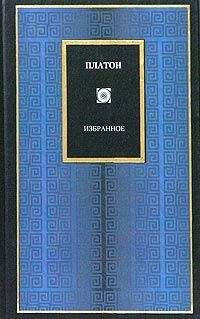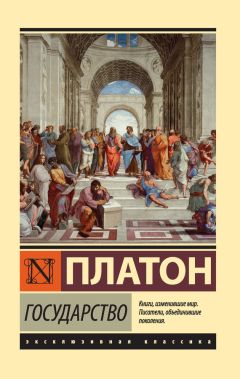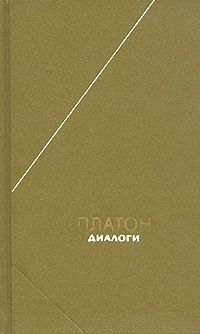Государство. С комментариями и иллюстрациями - Платон Аристокл "Платон"
– Так что же, наконец, остается нам определить законом? – спросил он.
– У нас-то ничего, – отвечал я, – а вот у Аполлона, что в Дельфах, величайшие, прекраснейшие и первейшие законоположения.
Платон считает нужным обратиться к авторитету божественному, к законодательству Аполлона, которое формы внешнего поведения приводило бы в гармонию с природой духа и вместе с тем сообщало бы им характер религиозный.
– Какие это? – спросил он.
– Относящиеся к сооружению храмов, к жертвам и иному чествованию богов, гениев и героев, а также к гробницам умерших и ко всему, что должно совершать, чтобы боги были нашими заступниками, ибо таких-то вещей сами мы не знаем (а если, устраивая государство, имеем ум, то не поверим и другому), да не обратимся и ни к какому иному истолкователю, кроме отечественного бога: этот-то отечественный бог, истолковывающий подобное всем людям, сидит среди земли, на пупе ее, и объясняет все вышеупомянутое.
Древние греки считали, что Дельфы стоят на средине Земли.
– Ты хорошо говоришь, так и надобно сделать.

– Итак, пусть государство будет уже устроено у тебя, сын Аристонов, – продолжал я. – После сего, достав откуда-нибудь свету, посмотри при нем вот на это-то – и сам, да позови и брата, и Полемарха, и других, – не увидим ли мы как-нибудь, где бы могла тут быть справедливость и где несправедливость, чем они отличаются одна от другой и которую из них надобно приобретать человеку, желающему быть счастливым, – утаивается ли она от всех богов и людей или нет.
– Это пустяки, – сказал Главкон. – Ведь ты обещал сам исследовать: неблагочестиво-де было бы, говорил, не помочь справедливости всячески, сколько есть сил.
– Верно припоминаешь, – сказал я. – Так-то, конечно, и надобно сделать, однако должны помогать и вы.
– Да, мы будем.
– Так надеюсь найти это следующим образом, – продолжал я. – Думаю, что государство у нас, если только оно правильно устроено, есть государство совершенно доброе.
– Совершенно верно.
– Явно, стало быть, что оно и мудро, и мужественно, и рассудительно, и справедливо.
– Явно.
– Значит, при наличии того, что мы в нем обнаружим, ненайденным будет лишь то, что останется?
– Что ты имеешь в виду?
– Это так же, как бывает относительно любых четырех вещей, если мы разыскиваем среди них какую-нибудь одну: если в которой-либо четверице вещей мы искали одну, то, узнавши ее наперед, остаемся довольными, а когда сперва узнали три, то через это самое становится у нас узнанной и искомая, ибо явно, что она есть уже не иное что, как оставшаяся.
Сократ говорит так: если из четырех вещей нам пришлось сначала найти ту, которая нам нужна, то мы успокаиваемся и прочие три оставляем. А когда, между четырьмя ища одну, мы нашли сперва три, которых не искали, то остальная, конечно, будет та, которую ищем, и свойства ее, через свойства, принадлежащие прочим трем вещам, легко определятся. Говоря таким образом, Сократ хочет, прежде чем коснутся вопроса справедливости, решить вопрос о мудрости, мужестве и рассудительности, чтобы потом само собой стало бы ясно, что такое справедливость.
– Правду говоришь, – сказал он.
– Не таким же ли образом надобно исследовать и это, поскольку наше государство отличается четырьмя свойствами?
– Очевидно.
– И во первых-таки, – в нем мне кажется явной мудрость, только в отношении к ней представляется что-то странное.
– Что такое?
– Мудро в самом деле, кажется, государство, о котором мы рассуждали, потому что оно благосоветливо. Не так ли?
– Да.
– Но это-то самое – благосоветливость, очевидно, есть некоторое знание, потому что не невежеством же, вероятно, а знанием хорошо советуют.
– Явно.
– Между тем о государстве знания-то ведь многочисленны и разнообразны.
– Конечно.
– Так неужели же благодаря знанию плотничьего искусства государство следует назвать мудрым и благосоветливым?
– Отнюдь нет, – сказал Главкон, – иначе его следовало бы назвать плотницким.
– Значит, государство надобно называть мудрым и не ради знания того, как деревянные изделия сделать как можно лучше?
– Конечно, нет.
– Что же? Медные или какие-нибудь другие?
– И не ради этого, – сказал он.
– И не за выращивание плодов земли, иначе государство можно было бы назвать земледельческим?
– Мне кажется.
– Что же? – спросил я. – В устроенном нами теперь государстве есть ли у некоторых граждан такое знание, которое советовало бы не о чем-либо в недре государства, а о нем целом, то есть как бы наилучшим образом могло оно сноситься и само с собою, и с другими государствами?
– Конечно, есть.
– Что же это?
– Это искусство быть всегда на страже: им обладают те правители, которых мы теперь называем совершенными стражами.
– Так, по этому знанию, каким объявляешь ты государство?
– Благосоветливым и действительно мудрым, – сказал он.

– Однако же в государстве у нас, – спросил я, – более ли, думаешь, кузнецов или этих истинных стражей?
– Гораздо более кузнецов, – отвечал он.
– Значит, сравнительно с прочими, которые почитаются имеющими какое-нибудь знание, – сравнительно со всеми ними, последние должны быть весьма малочисленны.
– Значительно малочисленнее.
– Следовательно, целое, согласно с природой устроенное государство может быть мудрым по малочисленнейшему сословию, по части самого себя, по начальственному и правительственному в нем занятию. Это, вероятно, есть согласный с природой малейший род, имеющий право обладать тем знанием, которое одно надобно называть мудростью прочих знаний.
Мудрость государства, согласно учению Платона, есть правительство. Не многочисленность отличных художников и земледельцев, не специальности в обширной области знаний нужно считать мудростью, а ту все соединяющую и всем управляющую силу, которая вносит свой распорядок и правильность во все занятия общества.
– Ты говоришь весьма справедливо, – сказал он.
– Так вот оно – одно из четырех: не знаю, каким-то образом мы нашли и то, каково оно само, и то, где в государстве оно укореняется.
– Да, мне кажется, решительно нашли.
– Ведь и мужество-то – и по нем самом, и по месту нахождения его в государстве, отчего государство должно быть называемо таким, – усмотреть не очень трудно.
– Как же это?
– Кто мог бы, – сказал я, – назвать государство трусливым или мужественным, смотря на что-нибудь иное, а не на ту часть, которая воюет за него и сражается?
– Никто не стал бы смотреть на что-нибудь иное, – отвечал он.
– Потому что другие-то в нем, будучи или трусливыми, или мужественными, не сделали бы его таким или таким.
– Конечно, нет.
– Следовательно, и мужественным бывает государство по некоторой части себя, поскольку в ней имеется сила, во всех случаях сохраняющая мнение об опасностях, эти ли они и такие ли, которыми и какими законодатель объявил их в воспитании. Или не то называешь ты мужеством?
– Не очень понял я, что ты сказал. Скажи опять, – отвечал он.
– Мужество, говорю, есть некоторое хранение, – продолжал я.
– Какое хранение?
– Хранение мнения о законе относительно опасностей, полученном с воспитанием, что такое эти опасности и какие. Вообще я назвал мужество хранением – потому, что человек и в скорбях, и в удовольствиях, и в желаниях, и среди страхов удерживает то мнение и никогда не оставляет его. Если хочешь, я, пожалуй, уподоблю его, чему, мне кажется, оно подобно.
– Да, хочу.
– Не знаешь ли, – продолжал я, – что красильщики, намереваясь окрасить шерсть в пурпурный цвет, сперва из множества цветов выбирают один род – цвета белого, потом употребляют немало предварительных трудов на приготовление шерсти, чтобы она приняла наиболее цвета этого рода, и так-то приготовленную уже красят. И все, что красится этим способом, быв окрашено, пропитывается так, что мытье ни с вычищательными средствами, ни без вычищательных не может вывести краски. А иначе, знаешь, что бывает, если красят – все равно, в этот ли цвет или в другой – без предварительной подготовки?