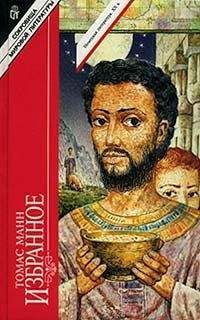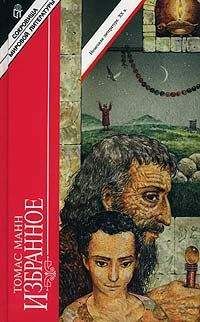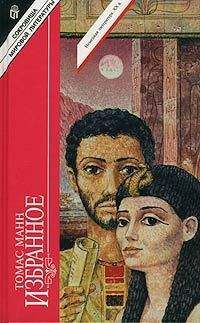Фрау Томас Манн: Роман-биография - Йенс Инге
Да, Катя наслаждалась поездками со своим знаменитым мужем, чьи выступления и речи „в переполненных публикой залах“ находили „самый сердечный отклик“ и завершались „громом аплодисментов“, как с гордостью сообщала она дочери Эрике, и всегда это были самые блестящие, самые значительные или, на худой конец, — бесподобные выступления. „Весь зал возносил ему хвалу“. Где бы они ни были — в Вене или Будапеште, Барселоне или Кёнигсберге, их всякий раз встречали „цветами и целыми депутациями“: „Восточная Пруссия счастлива и горда, она ликует, что принимает у себя величайшего поэта Германии, поэтому нам никак не удавалось уехать“. Однако потом резко наступал спад настроения, который, как и отчет о воздаваемых Волшебнику почестях и о встречах со знаменитостями, отражен в каждом письме: „Ах, лучше бы мы поехали в Кампен“, или — после впечатляющего описания знаменитых зальцбургских встреч: „Собственно говоря, с меня уже хватит, я не вполне вписываюсь в это общество (то есть, пожалуй, никогда не стремилась к этому)“.
Обязанность участвовать в официальных торжествах, общаться с первыми лицами и появляться в обществе выдающихся знаменитостей часто тяготила Катю Манн, а временами даже вызывала крайнее недовольство, в отличие от Томаса Манна. На таких встречах ей всегда казалось, что она неподобающе одета, слишком стара или чересчур толстая, неуклюжая, попросту говоря, она не вписывалась в это общество, что, однако, не мешало ей подвергать беспощадной критике и свое окружение: „Вечером […] были у Макса Рейнхардта в „Леопольдскроне“, для этого маленького господина из Пресбурга я вообще не могу найти достойного его местопребывания, но это — просто роскошное. Однако опять не удалось поговорить. Тимиг [73] оказалась не из приятных, ее можно охарактеризовать как уныло-скромно-жеманное существо“.
Нет, таким встречам Катя все-таки предпочитала поездки en famille [74], например, зимой с малышами в Эттале, летом — в Форте деи Марми, до тех пор, пока мещанство и высокомерие публики Итальянской Ривьеры не отбило у нее охоту бывать и там. Поводом к проявлению этих свойств послужило появление на пляже без купальника их маленькой дочери. Об этой истории можно прочитать в новелле Томаса Манна „Марио и волшебник“. О реальных событиях, лежащих в основе этой новеллы, Катя написала дочери Эрике в августе 1926 года: „Один мерзкий скандалист поднял хай из-за того, что мы разрешили нашей малышке Монике снять на пляже на какое-то мгновение трусики и прополоскать их в воде. Сначала этот глупый коротышка закатил мне омерзительную сцену, заявив, что это бесстыдство, — так злоупотребить гостеприимством, это оскорбление Италии, потом он вызвал полицию, и мне пришлось вместе с ним идти в участок, где меня допрашивали и клеймили позором. Не исключено, что нам еще предстоит уплатить небольшой штраф […]. Если бы не было такой жары и не будь переезд столь обременителен, мы бы уехали отсюда“.
Конечно, они не уехали, но сюда больше не приезжали. Теперь Томаса Манна потянуло на север, в Кампен на Зильте. „Северное море производит захватывающее впечатление, не сравнить с Балтийским. Папочка предпочитает теперь исключительно Северное море, потому что, против всех ожиданий, он там себя превосходно чувствует“. Для Кати Манн оснований более чем достаточно, чтобы опять обречь себя на долгое общение с по-настоящему скучной мещанской публикой, среди которой „почти не было интересных личностей, повсюду лишь несимпатичные круглоголовые дети — наши составляют исключение. Предмет моего особенного отвращения представляет один крупный берлинский торговец, отец десяти детей, зачатых, очевидно, без малейшего сладострастия, здесь их только шестеро и с ними тощая, плоская, как гладильная доска, сердитая его супружница. Берлинец день-деньской играет со своими отвратительными отпрысками в подвижные спортивные игры, а вечерами, облаченный в черный сюртук с высоким стоячим воротником, произносит пространные речи о государстве. […] Просто сущее наказание“.
Но, как всегда, Катя не поддается обстоятельствам, находя и приятные моменты. Среди отдыхающих нашелся и один знакомый, некто Килпер, из издательства, „очень милый, хоть и не настолько умный господин“. Потом следовал перечень постепенно прибывающих членов „собственной команды“: Клаус Прингсхайм, крестный Бертрам [75], но без своего друга Эрнста Глёкнера, его „на это время кто-то, очевидно, похитил“, Эрих Эбермайер, которого они вовлекли „в свой круг“ после отъезда его отца. „В общем, у нас получилась довольно внушительная приличная компания“, которая, к досаде дяди Клауса, поредела на одного человечка, господина фон Вагенхайма, которого телеграммой срочно отозвали в Берлин. Моника („которую тоже нельзя отнести к самым нормальным детям“) подружилась с Урзель Хойзер, а Волшебник прямо-таки „сияет от счастья, обретя наконец своего Клаусика [Хойзера]“. „Ну и ну, в каком мире мы живем и как, собственно говоря, мы дошли до такой жизни?“
Нельзя сказать, чтобы Катя Манн была несведуща в вопросах мужской однополой любви; эта проблема неотступно сопутствовала ее юности, и расположение брата-близнеца к ее будущему мужу тоже оказало какое-то влияние на ее выбор. То, что тема однополой любви не являлась запретной на Арчисштрассе, доказывают и письма Хедвиг Прингсхайм, а свободные отношения, царившие между друзьями и подругами детей дома в Герцог-парке, равно как и понимание Катей Манн связи, существовавшей между ее дочерью Эрикой и Терезой Гизе [76], а также между Клаусом и его часто меняющимися друзьями, ясно дают понять, что в ее кругу приоритетом являлся не пол, а „представительность“ данного партнера.
И вот теперь в Кампене, когда Волшебник светился счастьем от встречи со „своим Клаусиком“ — Клаусом Хойзером, тем единственным, в ком воскресли все его прежние любови, Катя наблюдала за происходящим отчасти умиляясь, отчасти забавляясь, а то и вовсе пожимая плечами, но в сущности с облегчением. „Отец“ чувствовал себя хорошо — это гарантировало и ей благотворные покой и тишину. Клауса Хойзера любили все, это был „славный мальчик“, „добрый“, „с пухлыми губами и носом с небольшой горбинкой“, всегда безупречно одетый и необычайно приветливый. У нее не возникло и тени недовольства, когда Томас Манн пригласил юного друга погостить у них в доме в Мюнхене, и позже вместе с мужем она восхищалась „трогательным“ благодарственным письмом юноши, где тот с восторгом писал, каким прекрасным получился у него отпуск. Однако она отметила, что „Волшебник слишком безоглядно отдался своим чувствам“, и это уже обеспокоило ее, поэтому она решила все-таки прекратить их бесконечные рандеву, к тому же долгое пребывание Хойзера в их доме и особенное отношение к нему отца вызвало сильнейшую ревность у Голо, ввергнув его в черную меланхолию.
А Томас Манн, как всегда, страдал; он был опечален тем, что приходится расставаться с приятными ему людьми, к кому он испытывал особое расположение или даже любовь, — прежде всего это были молодые мужчины, в особенности блондины с прекрасными лицами, чьё присутствие ощущается на страницах его произведений на протяжении не одного десятка лет, по крайней мере, — забегая вперед, — вплоть до 1950 года, когда накануне семьдесят шестого дня рождения он повстречал в Цюрихе, в отеле „На Дольдере“, юного кельнера. Его звали Францлем, это был „стройный юноша“, „баварец“. „Мысли о моей последней любви буквально переполняют меня, пробуждая все подспудные желания и потаенные стороны моей жизни. Первый предмет моей любви, Армии, стал пить после того, как, достигнув возмужалости, потерял свое очарование, он умер в Африке. Ему я посвятил свои первые стихи. Он живет и в Т[онио] К[рёгере], в Вильри [Тимпе] из „Волшебной горы“, в Пауле [Эренберге] из „Доктора Фаустуса“. Все эти страсти в некоторой степени увековечены. Клаус Х[ойзер], который значил для меня больше других, найдет себя во Введении к эссе „Амфитрион““.