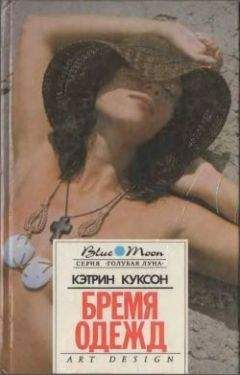Александр Етоев - Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта
Александр Етоев: Свойства и качества
Что-то вроде вступления
Черт знает, как надо начинать книгу о хорошем человеке. О плохом — просто. Товарищ такой-то всегда был примером для окружающих — слушался старших, мыл руки перед едой… А вот о хорошем — черт его знает как.
Начну с анекдота.
В купе поезда «Москва-Ленинград» едут четверо — трое мужчин и женщина. Причем один из мужчин негр. Раздается робкий стук в дверь, в купе заглядывает молодой человек, пробегает взглядом по лицам четверых пассажиров и так же робко, как и стучался, спрашивает: «Простите, а Нина Матвеевна Беркова кто здесь будет?» На что мужчина, самый из всех высокий, широкоплечий, представительный, с бородой, смотрит на него без улыбки и с каменным лицом отвечает: «Я».
Анекдот взят из жизни. История, произошедшая в поезде, правдива до последнего слова. Я ее слышал едва не из первых уст, потому что сам стоял тогда на платформе и ждал прибытия московского поезда.
Высокого, широкоплечего, бородатого, а главное, веселого человека звали Гена Прашкевич. Конечно, Геной стал он намного позже, тогда для нас, молодых писателей, едущих на семинар в Дубулты, был он Геннадием Мартовичем, одним из руководителей семинара, и называл я его на «вы», как и положено называть учителя.
Дело было в 1990-м году, осенью.
В тот год ленинградский семинар Бориса Стругацкого делегировал меня на Рижское взморье. Я стоял на вокзале, дожидаясь прибытия руководства, которого я в глаза не видел: с Ниной Матвеевной Берковой, председателем семинара в Дубултах, мы общались только эпистолярно, и я знал, по ее описанию, что она низенькая, черненькая, в шапке (осень), сапогах и пальто.
Прибыл поезд, из вагонов вывалила толпа, я выхватывал из толпы глазами низеньких и черненьких женщин в шапке, сапогах и пальто. Таких было полперрона, и я уже начал нервничать, когда взгляд мой уловил человека, каких в природе практически не бывает. Лицо и птицы и зверя одновременно, седая пиратская борода (их еще называют шкиперскими), ростом под Дядю Степу, он шагал в окружении свиты низкорослых малокровных созданий, произрастающих на московской почве. Беркова в его присутствии казалась незаметной былинкой с картины художника Верещагина. Это небывалое человечище и называлось небывало — Прашкевич.
Знакомство произошло на вокзале, пока еще только шапочное. Рюмочное произошло позже.
Потом мы ехали автобусом в Юрмалу. Потом пили в Доме творчества «Белый аист». Это был другой «Белый аист», не тот, которым травят людей сейчас. Молчаливый латышский бармен наливал его медленно и печально, словно предавал родину. Оно понятно, не пройдет и полгода, как он будет наливать «Белый аист» не оккупанту из кровавой Эсэсэсэрии, а гражданину свободной Латвии, сбросившему коммунистические оковы. Хотя вряд ли… Молдавский аист очень скоро распушит перышки и, пока перелетает границы, потеряет и в качестве и в цене.
В Дубултах я к Прашкевичу не попал, я ходил в семинар к Михайлову. Но, как на всяком подобном сборище, организованном при аппарате СП, главное происходило не в классах, рутинные разборы полетов мало волновали приехавших, — в баре, номерах, где угодно, вот где происходило главное. И редко когда всухую. Не учиться же мы ехали в Юрмалу, мы-то знали себе цену и без учебы. Каждый из нас был гением, каждый знал единственный верный способ, как достигнуть олимпийских высот. Наши идеальные сочинения, которые мы везли с собой, должны были поразить мэтров, доказать нашу литературную состоятельность, никто из нас помыслить не мог, что отыщется какой-нибудь негодяй, способный посягнуть на святыню, десятый экземпляр ксерокопии с шестого экземпляра машинописи рассказа о космических пауках.
Негодяй, конечно, всегда отыскивался, негодяем оказывался любой из нас, понимающий, что писать иначе, чем он, — совершать преступление против литературы.
Помню, был такой Вячеслав Михайлов, тоже из Ленинграда, он приехал, обремененный грузом визитных карточек с титлом «Writer», грозно предваряющим имя. Так вот, кто-то на семинаре в Дубултах назвал его повесть свалкой, где чего только не найдешь, копаясь, — экзотический берег моря, таинственных незнакомок в масках, таинственного старика в колпаке со звездами, который ходит, пугая прохожих фразой: «Ты будешь владыкой вселенной, мы тебя выбрали», обязательное слово «экстаз», сопровождающее сцены любви, и так далее, и тому подобное — только хрен разберешь при этом, чего ради эти кучи навалены.
Михайлов обиделся на весь свет и лежал два дня и две ночи, завернувшись в махровое полотенце и не высовывая носа из номера, благо туалет был под боком. Больше я про этого writer’а с того времени не слыхал ни разу, наверное, таинственный старичок все-таки убедил несчастного податься во владыки вселенной.
И подобных несчастных случаев на том семинаре в Дубултах было не один и не два, и все по милости высокомерных уродов, искателей и отыскивателей соринок в божественном глазу у соседа.
О блаженный максимализм юности, когда ты мог, не отводя взгляда, сказать бездарности: «А ты, брат, бездарен», когда не нужно было пить с графоманами и наше будущее было ясно и празднично, потому что впереди была вечность.
Это позже мы смиряемся с фактом: да, конечно, писатель он никакой, но зато как человек — золото! А тогда мы не видели человека: если ты сочинял на двойку, то, считалось, и человек ты двоечный, и «не желаем с тобой на лавочке сидеть». Почти как в формуле писателя Столярова, был такой семинарист у Стругацкого: «Плохой писатель суть плохой человек».
Выше я написал про Дубулты — о том, что главное происходило не в классах. Шло это, конечно, от школы — от обязаловки десятилетнего обучения, от ежедневного просиживания штанов на нежелающих кончаться уроках. Когда сын дворничихи Валька Метёлкин гонял по улице на стыренном велике, а ты, как про́клятый, сидел над тетрадкой и тёр глазами проклятущие дроби, в которых ни в зуб ногой.
На самом деле, в классах (или на семинарах, так это тогда называлось) происходило важное. Нас учили очень нужным вещам. Другое дело, что не все это понимали. Понимание приходило позже. И не ко всем. Действительно, ну с чего это вдруг «прежде чем что-нибудь напечатать, надо хорошенько подумать, не будет ли вам лет через десять стыдно за напечатанное»? Убранная в кавычки фраза принадлежит Владимиру Дмитриевичу Михайлову, замечательному человеку, писателю, ныне, увы, покойному. Я помню как сейчас его голос, его трубку, его слова. Фраза была сказана в Дубултах, в том самом, 90-м, году.
Учителя у нас были славные. Сергей Снегов, грузный мудрец, хлебнувший всякого — и клеветы и баланды. Вечерами он одиноко дремал в полутемном холле у телевизора, а мы тем временем в гостиничных номерах благодушествовали под коньяк и под разговоры. И, если честно, побаивались этого искушенного в жизни старца. Он был мудрый змей Уроборос, а мы так, погулять вышли.