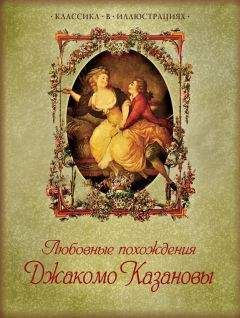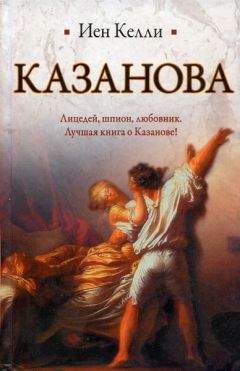Филипп Соллерс - Казанова Великолепный
По мнению Лафорга, после оргии Казанова непременно должен испытывать «отвращение». Ничуть не бывало. Тогда Лафорг сочиняет. И то сказать, в его эпоху плоть обязана была быть печальной, все книги — прочтены, а скука и меланхолия, сомнение и отчаяние — все больше охватывать умы.
Если Казанова пишет: «Уверенный в том, что в конце дня я в полной мере вкушу наслаждение, я отдался своей природной веселости» (уж таков он, Казанова), Лафорг исправляет автора и вкладывает в его уста такие слова: «Уверенный в своем счастии…» Слово «наслаждение» изгнано. Профессор считает невозможным описывать женщину, которая лежит на спине и занимается «рукоблудием». Нет, она будет «заниматься самообольщением» (пойми, если можешь). Во всяком случае, рука остается целомудренной. Профессор решается, однако, употребить слово «онанизм» (термин медицинский) там, где Казанова изобретает великолепный неологизм — «рукоублажение».
Ловкая женщина, рука которой умеет ее ублажать, не строит на свой счет никаких иллюзий — это легко проверить. Но, как видно, профессору Лафоргу не выпало случая в этом убедиться. Очень жаль.
Еще одно вмешательство цензуры: неприлично говорить, как Казанова, о «хищном нутре, которое у одной вызывает судороги, другую сводит с ума, третью делает ханжой». Казанова любит женщин и как любит, так и описывает, без всякого ханжества. Но Лафорг — он уже феминист, он почитает женщин, он их боится, он предтеча легионов стыдливых профессоров, в особенности философов — нового духовенства, которому предстоит заменить прежнее. Казанова — непослушный ученик в классе. Если он упомянет о подозрительном пятне на своих штанах, его быстренько отправят в уборную замыть пятно. От времени до времени в его сочинения будут вставлять моральные прописи (у него их нет). Иногда профессорская правка доходит до крайности. Вот, например, М.М., о которой Казанова говорит, что «эта монашенка, наделенная смелым умом, распутная и веселая, была восхитительна в каждом своем поступке». В один прекрасный день она написала своему Казанове любовное письмо. Вариант Лафорга: «Я посылаю тысячу поцелуев, которые тают в воздухе». На самом деле Казанова приводит другой текст (и насколько он лучше!): «Я целую воздух, представляя себе, что это ты». Мелочи? Не скажите. Любовь — наука мелочей.
«Моя жизнь — это моя плоть, моя плоть — моя жизнь», — говорит Казанова. Обычно литература, романы дают возможность вообразить жизнь, которой у автора не было, здесь наоборот: человек отдает себе отчет, как в день Страшного суда, что его жизнь была подобна книге, огромному роману.
«Вспоминая пережитые наслаждения, я наслаждаюсь ими снова, во второй раз, и смеюсь над горестями, которые мне пришлось пережить и которых я больше не чувствую. Частица вселенной, я обращаюсь к воздуху и воображаю, будто отдаю отчет в своем управлении, подобно метрдотелю, который отдает отчет хозяину, перед тем как уйти».
Великолепная формулировка: «Частица вселенной, я обращаюсь к воздуху…» И воздух слушает. Лицо по имени Казанова (которое прожило жизнь и которому предстоит умереть) смотрит на себя как на метрдотеля по отношению к самому себе. Он преданно сопровождал себя, обихаживал, служил себе. Как метрдотель, он может уйти из великого трактира жизни. Но уйти не значит у него исчезнуть. Жак — не фаталист. Его двойник — его секретарь. Тело уходит, дух судит. Дух — это повествование.
Таков Казанова — он устраивает себе праздник из каждого мгновения, он не знает длительных помех, ничто его не гнетет, его развлекают и занимают даже собственные болезни и неудачи; и, конечно, всегда и всюду неожиданно возникают женщины, вовлекаемые в его магнетическую круговерть. Он приходит, он уходит, и, главное, он спасается бегством. Нет сомнения, это величайший мастер побега (что такое «История моей жизни», написанная в захолустном уголке Богемии, как не высокого стиля побег от времени и пространства?).
Женщины, его союзницы, часто как бы волею случая связаны между собой узами родства или близости — это сестры, подруги или даже мать с дочерью. Протрем глаза и прочтем:
«Я никогда не мог понять, как это отец способен нежно любить свою прелестную дочь, не переспав с нею хотя бы раз. Эта моя непонятливость всегда убеждала меня и сегодня убеждает тем более, что мой дух и моя плоть — единая субстанция».
И богохульник настаивает:
«Инцест, вечный сюжет греческих трагедий, вызывает у меня не слезы, а смех».
Невероятно. Неужто Командор в «Дон Жуане» — просто кровосмесительный отец, который даже за гробом мучим яростью оттого, что другой, черт бы его подрал, совершил с его дочерью то, о чем мечтал он сам? А Иокаста, не знала ли она в глубине души, что Эдип — ее сын? А сам Эдип, в своих потемках, не испытывал ли двусмысленного смятения по отношению к собственной дочери Антигоне, которая была к тому же его единоутробной сестрой? Остановитесь, не то гореть вам в вечном огне. Надо понять смысл вызова Казановы, этого потрясающего требования инцеста (кстати, осуществленного на практике той знаменитой ночью в Неаполе и подробно описанного).
Всего этого вполне достаточно, чтобы смутить и шокировать любое общество, каким бы оно ни было. И возникает вопрос: как общество могло допустить, чтобы подобное признание было опубликовано? Нам не следовало бы читать подобные речи (тем более сегодня, в эпоху нового, усиленного давления моральных установок). Когда проходишься по XVIII веку, часто возникает ощущение, что человеческие особи в этом столетии словно бы отрезаны от человечества и, так сказать, свободны от него. Концентрация свободы в них столь велика, что они как бы постоянно нас опережают. Вслушайтесь в Моцарта — это сразу становится очевидным. То же ощущение свежего ветра при чтении Казановы. Если он прав и доказал это, девять десятых наших прописных истин рушится. Поэтому решили, что он просто хвастается. На самом деле все чистейшая правда.
«Мой дух и моя плоть — единая субстанция». Приключения Казановы, магнетизм, который они источают, несомненно, происходят от той самой «субстанции», которая составляет суть Казановы и которую не в силах объяснить никакая метафизика. Благодаря этой субстанции и благодаря неотъемлемому от нее презрению к рабству и смерти, стены раздвигаются, враги исчезают, счастливые случаи множатся, выход из тюрьмы становится возможным, игра оборачивается выигрышем, самоубийство откладывается, из побежденного безумия извлекается польза, и разум (во всяком случае, некий высший разум) торжествует победу.
Казанова — каббалист, он — маг, но вопреки расхожему мнению (которое не ведает сомнения) он во все это не верит и постоянно потешается над доверчивостью современной ему элиты. Он смеется над Калиостро и графом Сен-Жерменом. Его приключение с маркизой д’Юрфе (которая ждет от сексуального суперколдуна Казановы, что он преобразит ее в мужчину) — одна из самых ошеломительных историй, когда-либо случавшихся в жизни (или хотя бы рассказанных). Так что же, Казанова — шарлатан? Если угодно, да, когда приходится, но шарлатан, признающийся в своем шарлатанстве, чего не случалось ни до, ни после него, и при этом каждый раз уточняющий истинную — сексуальную — причину всех суеверий. По сути, он похож на Фрейда, но только с юмором. Фрейд — это итог века вытеснения; Казанова — повесть века освобождения, века, произведшего в конечном итоге единственную Революцию, о которой говорят до сих пор.