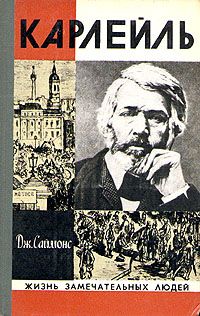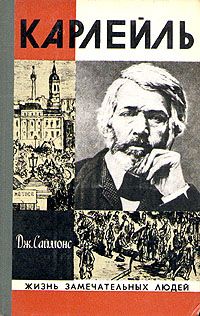Ханна Кралль - Успеть до Господа Бога
Эстер хотела поджечь гетто, чтобы мы все вместе сгорели. «И пусть ветер разнесет наш пепел», — говорила она, и ее слова вовсе не звучали патетически, а просто по-деловому.
Большинство выступало за восстание. Ведь человечество давно решило, что смерть с оружием в руках гораздо красивее, чем без оружия. Мы подчинились этому мнению. Нас в ЖОБе оставалось двести двадцать человек. Можно это назвать восстанием? Речь шла лишь о том, чтобы не дать себя зарезать, когда придут и за нами.
Речь шла лишь о выборе способа умереть.
Это интервью, переведенное на разные языки, глубоко всех возмутило, и пан С., писатель, даже написал ему из США, что вынужден был его защищать. Что опубликовал три пространные статьи, чтобы смягчить возмущение. Одна статья называлась: «Признание последнего командира варшавского гетто».
Он в такой степени развенчал культ величия, что люди писали в газеты отовсюду — по-французски, по-английски, на иврите, на других языках; особенно шокировала история о рыбе. О той рыбе, жабры которой Анелевич красил красной краской, чтобы мать могла продавать вчерашний товар.
Анелевич, сын торговки, красивший жабры, — этого еще недоставало! Нелегко было писателю С. Да тут еще один немец из Штуттгарта написал ему милое письмо.
«Уважаемый герр доктор, — писал этот немец (а он во время войны находился на территории гетто как солдат Вермахта), — я видел на улицах тела людей, много тел, прикрытых газетами, помню, как это было ужасно; мы оба с Вами жертвы этой страшной войны; не могли бы Вы написать мне?»
Разумеется, он ответил, что да, ему очень приятно и что он прекрасно понимает чувства молодого немецкого солдата, который впервые увидел тела, прикрытые газетами.
Вся эта история с писателем С. напомнила ему поездку в США в шестьдесят третьем году. Тогда его привезли на встречу с руководителями профсоюзов. Он помнит: стоит стол и за ним сидят человек двадцать. Сосредоточенные, взволнованные лица — профсоюзные деятели тех организаций, которые во время войны давали деньги на оружие для гетто.
Председатель приветствует его, и начинается дискуссия. О памяти. Что такое человеческая память и нужно ли ставить отдельные памятники или целое здание, в общем, такие вот литературные проблемы. Он тогда очень следил за собой, чтобы не ляпнуть чего-нибудь вроде: «А какое значение теперь это все имеет?» Он не имел права огорчить их. «Осторожнее, — повторял он про себя, — смотри, у них уже слезы на глазах. Они давали деньги на оружие, ходили к президенту Рузвельту, чтобы спросить, правда ли все то, что говорят о гетто, — ты должен быть добрым по отношению к ним».
(Это случилось как раз после одного из донесений, составленных «Вацлавом», сразу же после того, как Тося Голиборская выкупила его из гестапо за персидский ковер; донесение в виде микрофильма было доставлено курьером, под пломбой в зубе, и через Лондон попало в США; но они не могли поверить в эти тысячи людей, переработанных на мыло, в тысячи приведенных на Умшлагплац, — вот они и пошли к своему президенту спросить, можно ли серьезно относиться к подобным донесениям.)
И он старался быть приветливым, разрешал им поражаться, говорить о памяти, — но теперь, в интервью, болезненно всех задел: «Можно ли это назвать восстанием?»
Вернемся к рыбе. Во французском переводе, в еженедельнике «L'Express» говорилось не о «рыбе», а о «порции рыбы»: мать Анелевича, еврейская торговка с Сольца, покупала «маленький горшочек с красной краской». Да разве можно к этому относиться серьезно? А Анелевич, который мажет краской жабры, — разве это и есть тот Анелевич?
Это напоминает попытку рассказать английским кузенам о старушке, которая умирала от голода во время Варшавского восстания. Перед смертью эта набожная женщина просила дать ей что-нибудь поесть, «пусть даже не кошерное, — говорила, — можно и свиную котлету».
Рассказать нужно было по-английски, поэтому старушка просила не котлету, а pork chop,[11] и вот, к счастью, она сразу перестала быть «умирающей старушкой». К счастью — потому что обо всем можно говорить без истерики, спокойно, как и полагается беседовать в приличном английском доме.
А они настаивают, мол, это все-таки настоящий Анелевич, этот с «красителем» (peinture vouge). Видимо, в этом что-то есть, коль скоро люди настаивают. И еще пишут, что такого о Коменданте рассказывать нельзя.
«Слушай, — говорит, — надо впредь быть осторожнее. Будем тщательнее подбирать слова».
Вот именно.
Будем очень внимательно подбирать слова и постараемся не ранить людей.
Как-то позвонил американский писатель, пан С. Он в Варшаве, виделся с Антеком и Целиной, но хочет лично ему все рассказать.
Что ж, дело серьезное. Можно не обращать внимания на то, что говорят в мире, но мнением двоих людей пренебрегать нельзя. Тем более, что эти двое — Целина и Антек. Заместитель Анелевича, представитель от ЖОБ на арийской стороне, Антек вышел из гетто незадолго до начала восстания; Целина была с ним все время, с первого дня и до ухода по каналам.
До сих пор Антек молчал. А теперь приезжает пан С. и утверждает, что виделся с ним неделю назад.
Мне кажется, что Эдельман немного волнуется перед этой встречей. Оказывается, зря. Пан С. уверяет, что Антек говорил о дружбе и уважении и что он полностью, за исключением некоторых деталей, принимает его, Эдельмана, интервью.
— Каких деталей? — спрашиваю пана С.
— Ну, например, Антек утверждает, что было их не двести, а гораздо больше, пятьсот, может, даже шестьсот.
— Антек говорит, что вас было шестьсот. Исправим это число?
— Нет. Нас было двести двадцать.
— Но Антек хочет, пан С. хочет, все очень хотят, чтобы вас было хоть немного больше… Исправим?
— Но ведь это не имеет значения, — отвечает он со злостью. — Неужели вы в самом деле не можете понять, что теперь все это не имеет никакого значения?!
Да, вот еще. Разумеется, о рыбе.
Красил ее не Анелевич, а его мать. «Вы это отметьте, — говорит мне пан С., - это очень важно».
Возвращаюсь к вопросу об обдуманном выборе слов.
Через три дня после выхода из гетто пришел Целеменский и проводил его к представителям различных политических партий: те хотели услышать отчет о восстании. Он единственный из повстанческого штаба остался в живых и к тому же был заместителем Коменданта; итак, он представил рапорт: «За эти двадцать дней можно было убить больше немцев и больше спасти своих. Но, — продолжал он, — мы не были обучены соответствующим образом, мы не умели вести бои. Кроме того, немцы дрались умело».
А те молча смотрели перед собой, наконец один из них сказал: «Его надо понять, это ведь не совсем нормальный человек. Это тень человека».