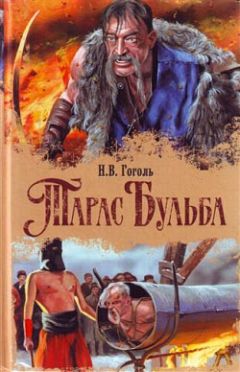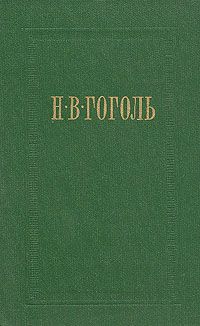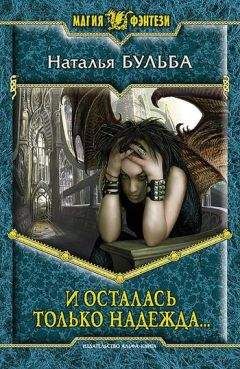Н. Вальден - В польском плену
— Назад! — раздался окрик второго часового, который, не получив надлежащей мзды, решил прекратить опасное сообщение с волей.
Я не мог оторваться от окна. Грянул выстрел, чуть опаливший мне бороду. Тогда только я отошел и упал на пол...
В нашей комнате оказалось старое надтреснутое зеркало. Я остановился перед ним и вскрикнул, увидя наполовину чужое лицо. Теперь стало понятным, почему и часовые, и пленные красноармейцы величали меня стариком. У зеркала стоял человек 26 лет с мутными полусумасшедшими глазами, с сильно тронутыми проседью волосами, жалкий, осунувшийся, сгорбившийся.
Прошел длинный, тоскливый день. Мои товарищи почти не разговаривали со мной. Они считали меня слегка тронутым, особенно после того, как по какому-то пустяковому поводу я пришел в ужасное раздражение и начал что-то очень горячо и путано доказывать. Часовой начал уже вслушиваться. Меня еле-еле остановили.
Торжественный багряный закат заполнил комнату. Я потянулся к окну — единственному выходу в мир, на волю... Если бы не окрики товарищей и ругательства часового, я так бы и вышел, кажется, сквозь переплет рамы и звон стекол, по мягкому, пушистому красному ковру заката — к смерти, к освобождению.
Ночь. Все заснули. Вдруг я услышал, как осторожно отпирают замок, услышал бряцанье сабель, топот ног.
«Выводят на расстрел» — подумал я. Минута-другая ожидания. Дверь раскрывается. В комнату вносят большую посудину с каким-то варевом.
Поездка в Галицию
Ранним утром следующего дня нас выстроили во дворе и после переклички, сопровождаемой бранью и зуботычинами, повели на вокзал. Я едва держался на ногах, — меня качало из стороны в сторону. Кто-то сказал унтеру, что у меня жар, я брежу. Он остановился на минутку и, сказав «добре, добре», махнул рукой и пошел дальше. Он был прав, этот бравый унтер. Мне бы несдобровать в Житомире. Каким-то чудом мне удалось избежать посещения военной комиссии с добровольцами из местной буржуазии, занимавшейся отбором и выявлением «комиссаров». Я был единственный более или менее значительный работник, попавший в плен.
Босой, в подштанниках и рубахе, я на холодном апрельском ветру больше всего страдал от того, что не поспевал за товарищами. Для первой прогулки босиком — неподходящая обстановка. С вокзала в тюрьму я еще кое-как добрался в чулках. Теперь же я то и дело попадал голой непривычной ногой то на камень, то еще хуже — в лужу.
Ехали мы не день, не два, а целых 12. Народу было много, так что мы согревали друг друга. Но от меня, как от больного, естественно, сторонились. Я лежал один и то мерз немилосердно, то весь горел, мучаясь палящей жаждой.
Мы явно мешали жить сопровождающему нас унтеру — простому, инертному крестьянскому парню. Чтоб вознаградить себя за беспокойство, он не кормил нас, присваивая себе те жалкие гроши, которые отпускались, вероятно, на нашу кормежку. А, может быть, я и клевещу на пана Владека?
Во всяком случае, 7—8 дней мы оставались абсолютно без всякой пищи. В интервалах между приступами возвратного тифа, жестоко трепавшего меня в течение всей поездки, я испытывал очень странное ощущение. После 2—3 дней голодовки есть уже не хотелось. Чувство большой слабости соединялось с приподнятостью духа и легкой, приятной мечтательностью.
Многих мы не досчитались за нашу поездку, и за многих, вероятно, продолжал наш «старший» благодушно выписывать не существовавшие путевые расходы...
Нельзя сказать впрочем, чтобы наша поездка совсем была однообразна. Помню, как на больших станциях к нашему вагону подходили господа с палками, «дамы из общества». Наиболее «подходящих» пленных вытаскивали из вагона, били и царапали. Особенным успехом пользовались евреи и один китаец. С тошнотой вспоминаю, как эти звери подступали ко мне. Начинался неизменный диалог.
— Жид?
— Не.
— Правду? — и т. д.
— В тифу лежу, — говорил я, наконец, с отчаянием юродивого. Это оказывало нужное действие, публика очень быстро оставляла меня в покое, приговаривая: «Ну и подыхай, его бы пристрелить нужно». Мне говорили, что какой-то шляхетский юноша действительно хотел испробовать на мне свой револьвер. Кто-то его остановил.
Всему приходит конец. Пришел к месту назначения и наш поезд, сутки, а то и больше простаивавший на станциях. Нас привезли в Станиславово — в Галицию.
Станиславово
В Станиславове я, наконец, попал в госпиталь. Пришел доктор, — первый врач, какого я видел за все время плена, — посмотрел на меня и сейчас же послал за носилками.
Унтер что-то неодобрительно сказал ему.
— На бачность! (Смирно) — прикрикнул тот вместо ответа и, звякнув шпорами, пошел к выходу из станционного зала.
Через полчаса я очутился на чистой больничной кровати. На ночном столике стоят склянки с лекарствами. Трудно выразить, что я почувствовал, очутившись в больнице. Спокойный голос врача казался мне музыкальным. Скудный больничный обед я ел медленно, смакуя каждый глоток. Чего стоила одна возможность вытянуться на постели и заснуть, не опасаясь того, что грубый пинок бросит куда-то на свалку, заставит обороняться, оправдываться!
Ординатор был любопытным представителем отмирающей «чистой медицины». Капитан польской службы, знающий и строгий человек, он лечил меня как больного, стараясь не задумываться ни над чем сторонним. Либеральный интеллигент, он, может быть, и по «человечеству» чувствовал ко мне жалость как к беззащитному, слабому и больному человеку. Но это не умеряло его усердия, — он делал все, что полагалось. А ведь чем лучше меня лечили, тем скорее приближался момент выписки, о котором я не мог и думать без содрогания...
Пока же я был болен и сильно болен. Возвратник подходил к концу, но небольшие ранения, полученные мною при взятии в плен, загноились, а в ослабленных тканях организма запылали гнойные очаги фурункулеза. В верхушках обоих легких открылись процессы.
В небольшой палате нас лежало 5—6 человек. Окна широко раскрыты в солнечный сад. В окна вплывает пение. Молодые, сочные голоса старательно выводят:
Дай мни, дивчина, хустыну,
Може, я в поле загыну,
Накрою очи
Темною ночью —
Легче в могилы спочыну...
Все лежащие вместе со мной больные были галичанами и украинцами. Быстро завязались знакомства, начались разговоры. Понемногу к «большевицкому офицеру», как меня некстати окрестили галичане, стали сходиться и из соседних палат. Создалось нечто вроде политшколы I ступени. Необычайно цепко хватаясь за жизнь, я быстро освоился с польским языком, читал польские газеты, которые мне украдкой приносила сестра, и потом рассказывал, что делается, невольно сопровождая польские вымыслы советскими комментариями. В госпитале я прочел, кстати, о первой поездке Красина в Лондон. Это осталось у меня в памяти потому, что тогда к нам подошла старшая сестра и приняла участие в беседе. Она вскользь бросила, что если Красин «не жид», может быть, и добьется чего-нибудь от англичан.