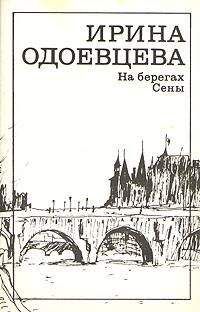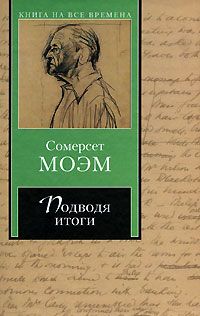Ирина Одоевцева - На берегах Сены. Фрагменты
— Вина у меня нет, — говорю я.
— Чая не пью, — отчеканивает он. — Пошлите за вином! На мой счет!
Я удивленно оборачиваюсь к растерянному Башкирову. Он торопливо и сбивчиво объясняет, что Северянин по дороге ко мне заходил в разные кафе и бары подкрепиться — для храбрости, для вдохновения.
— И вот… Ради Бога не сердитесь. Простите. Поймите… Нет, я не сержусь. Я пододвигаю пирожные «принцессе», и она испуганно кладет одно из них на свою тарелку, но прикоснуться к нему или к чаю, принесенному ей горничной, не решается. — Едем в ресторан! — требует Северянин. — Едем! Что тут сидеть и киснуть? Скучища!
Тут сидеть ему действительно ни к чему. Я шепчу Башкирову:
— Уведите его скорее!
Башкиров берет его под руку.
— Правильно, едем в ресторан! Едем! — и ведет его к двери.
«Принцесса», красная от стыда, встает, протягивает мне руку лодочкой и шепчет:
— Простите, ах, пожалуйста, простите! Северянин останавливается на пороге и поворачивается ко мне.
— А вы? Одевайтесь скорее! Я без вас не уйду. Без Одо-евце-вой не уйду! Живо! Не копайтесь!
Башкиров тащит его.
— Одоевцева придет прямо в ресторан. Честное слово, придет! Через пять минут придет, — уверяет Башкиров.
— Только не копайтесь, — снова повелительно кидает мне Северянин. — Без проволочек! Терпеть не могу ждать! — и наконец дает себя увести.
«Принцесса» чуть ли не плача уходит с ними.
— Простите. Ради Бога простите! — все повторяет она.
Я запираю за ними входную дверь и облегченно вздыхаю. Слава Богу, ушел! Ведь он мог начать бить посуду, скандалить. А так все обошлось благополучно. Впрочем, не совсем. Спускаясь по лестнице, он звонил во все квартиры.
«С ним все навсегда кончено! Больше я никогда не встречусь с ним, никогда!» — решаю я и бегу переодеваться.
На следующее утро ко мне является Башкиров с просьбой понять — простить: «Северянин в отчаянии. Всю ночь не спал. Он мечтал очаровать вас, как своих бесчисленных поклонниц когда-то, и, для вдохновения, по дороге к вам…»
— Я совсем не сержусь, — прерываю я его. — Передайте ему — понимаю и прощаю. Но видеть его больше не хочу. Никогда!
Башкиров театральным жестом хватается за голову. — Это кошмар! Катастрофа! Ведь он хочет прийти сегодня же к вам. Вы не можете быть такой жестокой.
— Перестаньте. Никакого кошмара, никакой катастрофы. Скажите ему, что я желаю ему и его эстоночке всего хорошего и кланяюсь ему. Пусть не огорчается. А вы перестаньте приставать ко мне, не то я действительно рассержусь, и не только на него, но и на вас, и вас тоже не пожелаю видеть.
Прошло несколько дней, полных разнообразных впечатлений — ведь тут, в Берлине, «ощущения бытия» не похожи на прежние, петербургские. Занятая этими, новыми для меня «ощущениями», я совсем не думала о Северянине, Башкиров тоже остерегался напоминать мне о нем.
Я сижу у себя и читаю, когда горничная в белом передничке — здесь они еще не перевелись — докладывает мне, что меня спрашивает какой-то господин. Нет, фамилии своей он не назвал.
Я удивлена. Я никого не жду. Мои друзья и знакомые просто — без доклада — проходят прямо ко мне. Кто бы это мог быть?
Я выхожу в прихожую. У окна стоит Северянин в пальто, со шляпой в руке. Увидя меня, он весь дернулся и ринулся ко мне так стремительно, что я отступаю на шаг.
— Вы не выгоните меня? Я уезжаю завтра, но я не могу уехать, если вы не простите меня. Не могу… — он очень бледен, голос его дрожит: — Поймите, как для меня это ужасно. Дожить еще и до того, что женщина отказалась меня принять!
Я протягиваю ему руку.
— Успокойтесь, и раз вы пришли — оставайтесь. Пойдем ко мне.
— Не выгоните? Правда?..
Я иду по коридору, он за мной. У себя я сажусь на диван и указываю ему место рядом с собой, но он остается стоять, даже не сняв пальто.
— Снимите пальто и садитесь, — говорю я. Он стоит передо мной, долговязый, застенчивый, в полной растерянности.
— Я только на минутку, не задержу вас. Но если позволите… — и он, сняв пальто, садится не рядом со мной и не в кресло, а на стул. Так робко, что я не узнаю в нем того «бального», надутого, высокомерного, накрахмаленного Северянина.
— Мне было необходимо видеть вас, я бы просто не мог…
Не мог? Чего бы он не мог? Но я не спрашиваю.
А он, будто убедившись, что теперь я пойму его, продолжает торопливо:
— Я очень, я страшно несчастен. Вы себе и представить не можете, до чего! И вот то, что со мной, которому женщины поклонялись как Богу, могло случиться такое, меня просто доконало, помните рассказ Чехова? Бедная девушка, совсем бедная, полуголодная, целый день бегала по объявлениям в поисках работы, изнемогая от усталости, и вот вечером в какой-то конторе швейцар не впустил ее и, так как она все же хотела войти, толкнул ее в грудь: «Место уже занято! Говорят вам, занято!» Не грубо, совсем легко толкнул, а она повернулась, добежала до моста и бросилась с него в Неву! Все могла перенести, а это ее доконало. Как ваш отказ принять меня.
— Но ведь я ничем не обидела вас, — протестую я, краснея, — право, ничем. Я боюсь пьяных. Я боялась скандала.
— Да, да. Вы не могли иначе поступить. А обо мне вы не подумали. До меня вам никакого дела не было.
Я сознаю, что он прав. Мне действительно не было дела до него. А сейчас… Сейчас есть. И еще какое! Мне его очень жаль. Мне хочется утешить его. Но чем?
И я говорю наобум первое, что мне приходит в голову — — Я никогда не была на ваших поэзовечерах, но знаю, что у вас был невероятный, небывалый успех, и я… Он не дает мне закончить:
— Да, да. Небывалый, громокипящий успех. Уличное движение останавливали, когда я выступал в зале под Думской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора! Страшно вспомнить, какое великолепие! Купчихи бросали к моим ногам на эстраду бриллиантовые браслеты, серьги. брошки…
Он весь преображается, голос его звенит. — До чего чудесно было! Сказка из «Тысячи и одной ночи». Даже еще чудесней! Сологуб возил меня по всей России, и всюду вечный праздник, беззакатное торжество! На меня, как из рога изобилия, сыпались цветы, слава, влюбленные женщины… И деньги! Сколько денег! Просто золотой дождь!
Он мечтательно закрывает глаза и улыбается. Я впервые вижу его улыбку — и на балу, и в злосчастный вечер его прихода ко мне у него было самоуверенное, злое, почти наглое лицо, а теперь его улыбка придает ему что-то беззащитное, наивное, почти детское.
— Если бы я тогда копил деньги, я бы и сейчас был богатым человеком. Но я деньги безрассудно отдавал другим, себе брал только славу. Но и она оказалась, как все в моей жизни, чертовыми черепками. Все обмануло, все погибло — все!..