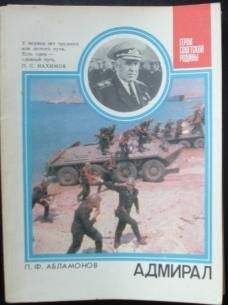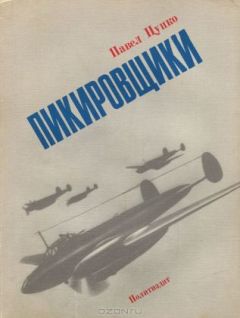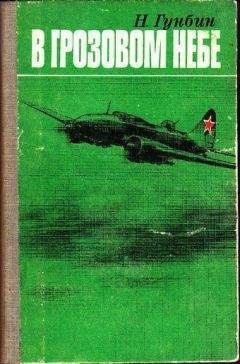Николай Галкин - Откуда соколы взлетают
— Катерина, уноси скорей куда-нито ребятишек, я за Шерстобитовым побегу, это, ведь сибирка у него!
У фельдшера горел свет, но дверь не открывали. И не открыли.
— Кто?
— Сурова. Теща Петра Александровича. Похоже, заразился он.
— Ну и что?
— Как — что? Доктор нужен. По ту сторону двери усмешка:
— Ах, доктор нужен. А я — фершал. Слышите? Фершал. И ночь на дворе. Темень, грязь, лужи. И даже не просите. Сапог нет, а в штиблетах не пойду.
— Тогда по свету ждать?
— Никогда. Так и передайте, он знает почему. Попа зовите.
— Креста на тебе нет.
— Ни креста, ни звезды, а на нем, похоже, и то, и другое. И перестаньте барабанить, бесполезно.
Сапожник Галкин на третий день умер, а фельдшер Шерстобитов долго еще здравствовал, выступая перед учениками в школах с рассказами о своей учебе с Лениным в одной группе Казанского университета.
Похоронила Екатерина кормильца — и хоть самой петлю на шею да тем же следом.
У казахов купили, казахам же и продали и проели Алтынат[8] за какие-нибудь две недели, самим зарезать на мясо — оно бы в рот не полезло, вот с такусенького жеребеночка растили; выручку за оставшийся кожевенный товар только и видели, пока пересчитывали ее, колодки с инструментом — те вовсе даром никому не нужны тут. Спасибо, добрые люди посоветовали, сама не догадалась.
— Сноси в Кособродку к Карфидову. Может, на что и выменяешь.
— Ага, ближний путь двадцать четыре версты в оба конца, — заворчала на дочь Прасковья Егоровна, узнав, далеко ли она собирает сапожную снасть. — Пузо вон на нос уж лезет, снесу… И не выдумывай, сиди, прижми хвост. Дотянем как-нибудь до зимнего первопутка и вместе сползаем потихоньку на санках.
Расспросив, кто они и зачем, мешок с инструментом Карфидов и развязывать не дал.
— Свой ищу, кому сбыть. Новая власть больше одного работника держать не дозволяет.
Колодки вытряхнул.
— Эти возьму. Авось хоть домочадцев в фасон обуть успею. А Петро, царство ему небесное, соединился, значит, с пролетариями всех стран?..
— Не кощунствуй, не бери грех на душу.
— Грех? Будь помоложе, я бы его такой взял, какого Емеля не брал. Не беда, что Петро умер, цари мрут, и не их жалко, жалко — мастера свои ремесла переживут. И канет в конце концов промысел народный в небытие. Вот сколько вы запросите за деревяшки эти?
Женщины переглянулись.
— Не зыркайте. Больше ведра картошки все равно не дам, а ведь им цены не было. Ни цены, ни веку бы. И сгорят. Не сегодня, так завтра.
— Это почему?
— А то уж вы сами смекайте…
Но тогда было не до раздумий, почему должны сапожные колодки до срока сгореть, тогда думали, как самим не угаснуть. На прииске какой-то умник отлил из червонного золота плевательницу для общественного туалета, пустив слух, что оно якобы при социализме ни на что другое и не годно будет, изъято новой властью из обращения и упразднено как основная причина неравенства и как этот… будь он неладен… базис проклятого капитализма, а поэтому рушить, так рушить. Разрушили — и нигде никого. Хозяев — ни старых, ни новых. Работы — никакой.
— Езжай-ка ты, слышь, милая дочь, к братьям на угольные копи, пока не народился четвертый на явную смерть.
— А там чем лучше? Везде одинаковое творится.
— Одинаковое, да не везде. В Копейске, сказывают, порядок. И, опять же, огороды свои у ребят, хозяйство.
Екатерина заплакала.
— Ой, мама, мама… Жену муж любит здоровую, брат сестру — богатую, а я кому нужна со своей ордой? Может, написать сперва? Вдруг откажут.
— Да неуж они без понятия, в Красной гвардии столько лет воевали за человеческую справедливость. Езжай, примут. И работу подыщут.
Пристроили братья сестру поначалу сторожихой-уборщицей в школу, а немного окрепла — перешла на полный паек грузчика угля. И слегла на больничную койку в желтухе. По статистике того руинного времени эпидемии валили с ног каждого второго. И многие из этих вторых так и не поднялись. Заболевали оспой, желтухой, малярией, тифом, и по всей стране спешно сколачивались карантинные бараки. И гробы: умершие от «летучих» болезней хоронились в тот же день.
Но страшнее эпидемий были кулацкие банды.
Инфекционный барак, сколоченный из просушенных до пороховой сини дощечек, занялся весь разом, и пламя, зябко дрожа, напрасно тянулось к беспомощным звездам: на скрипучем снегу переставали ворочаться и скоро затихали выброшенные через окна больные.
И еще четырьмя круглыми сиротами стало больше на земле: Екатерина Федоровна Галкина, не приходя в сознание, умерла от скоротечного воспаления легких.
Наплакавшись до песка в глазах над могилой дочери, каменной бабой стыла около спящих под теплым тулупом внучат Прасковья Егоровна.
— Ох, Галкины, Галкины… Да что же это за роковая судьба такая выпала роду вашему, ни отцов, ни матерей не знать?.. А заберу-ка я вас, наверно, обратно туда, к себе.
— Не выдумывай, таскать ребятишек взад-вперед.
— Мы им что, не свои? — обиделись снохи.
— Свои, но все равно только тетки, а я — бабушка.
И спор с ней оказался бесполезным: жила-жила податливым воском всю жизнь, тут отвердела кремнем. Разыскала извозчика с лошадью, санями, с коробом и соломой в нем, упаковала пассажиров, — старшему семь, младшему годик, — захлобучила сверху ватным одеялом и — господи, благослови.
Мороз зверел. Воздух, как пронашатырен, рукавицу нельзя от лица отнести — сразу до слез прошибает. Мерин закуржавел и часто спотыкался, мотая мордой с наросшими у ноздрей сосульками. Ямщик передавал бабке вожжи, вываливался из коробушки, разминаясь, догонял повод недоуздка, перекинутый через гуж, останавливал одним касанием догадливое животное и тер шу́бенкой[9] храп до тех пор, пока не отпадут ледышки и бедняга не зафыркает.
— Ну, ровно в губы тебе его целовать, обихаживаешь. Не довезешь ведь эдак, поморозишь мне сиротинок, — шарила бабушка рукой под одеялом, не коченеет ли который.
— Довезем. А вот если сопатку перехватит коню, тогда хана и ему, и нам.
— Спаси, Христос, и помилуй. Мы, ладно, пожили, им каково не своей смертью умирать.
— Баба! — вылез наружу Колька. — А не своей кто-то никогда не умрет?
— Почему? Умрет. Но всякая смерть до срока, естеством определенного, — насильна и грех, за коий должен быть наказуем виновный в нем. Сиди, рано ишо тебе разбираться в этом.
В Половинное въехали затемно. Село, видимо, и названо было так потому, что расположилось в аккурат на половинной шестидесятой версте между Челябой и Пластом.