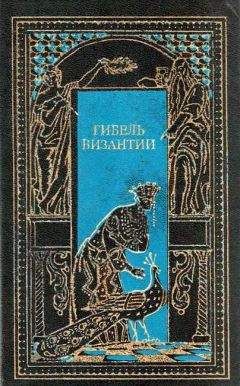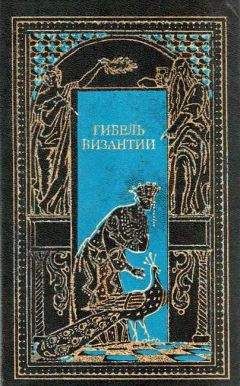Джон Эш - Византийское путешествие
I. Стамбул
Прибытие
В самолете Париж – Стамбул, летевшем на восток над густым слоем облаков, мне вспомнилось, что прошло тридцать лет с тех пор, как я впервые услышал о Византии. Это случилось в душный и скучный школьный полдень. Я читал краткий очерк истории Римской империи и был изумлен, узнав, что империя, сохранившая название Римской, со столицей в Константинополе, просуществовала до невероятно поздней даты – до 1453 года. Вскоре я узнал, что у этой империи кое в чем была очень дурная репутация, а ее имя служило синонимом застоя и упадка, но мне показалось невероятным, что цивилизация может «загнивать» более тысячи лет. Такая живучесть, по крайней мере, предполагала в народе и культуре наличие колоссальных резервов энергии и упорства. Мое любопытство росло. Часы, проведенные в гулкой ротонде манчестерской Центральной библиотеки, познакомили меня с искусством и архитектурой Византии. Я увидел отнюдь не «декаданс», а бесподобное слияние духовной утонченности и вещественной роскоши. Нечто величественное и таинственное, в чем-то отталкивающее и оклеветанное, но в любом случае ожидающее от меня понимания и приязни.
В 1960-е годы, бывая в Греции, я отыскивал византийские памятники – монастыри Дафни и Оссиос Лукас, крепость Монемвасию и разрушенный город Мистру, красные крыши церквей которого теснились в зелени кипарисов, придавленные чудовищной массой Тайгетских гор.
В Бирмингемском университете меня поддержал профессор Энтони Брайер, невысокого роста румяный джентльмен, чьи воротнички и галстуки неизменно пребывали в состоянии невообразимого хаоса. Мне это казалось довольно романтичным, поскольку подчеркивало его энтузиазм по отношению к предмету исследований и полное безразличие к малейшим попыткам посягательства извне. Я принялся за дело с ничуть не меньшим задором, а он с симпатией воспринял мою длиннющую поэму «Падение 1453 года», хотя и не отказал себе в том, чтобы отметить в ней кое-какие огрехи.
Благодаря магии имени профессора Брайера среди коллег-византинистов, мне удалось увидеть высоко в горах Тродос на Кипре фрески Лагудеры, когда их еще реставрировали. Забравшись на строительные леса, я буквально лицом к лицу приблизился к ангелам, святым и византийским придворным. Помню череду дев с обетными свечами в руках. Утрата краски привела к тому, что свечи превратились в грязные пятна или совсем исчезли, но руки, лица и широкие одеяния синего и алого цвета оставались по-прежнему яркими, как и восемь столетий назад во времена Комнинов.
В 1968 году я поехал в Константинополь, продвигаясь из конца в конец Европы по железной дороге тем медленнее, чем больше к нему приближался. Временами состав застывал в какой-нибудь безвестной долине, прорезанной широкой и мутной рекой, где взгляд останавливался на бескрайних полях подсолнухов, как по команде поворачивавших вечером свои головы на запад. Я с трудом сдерживал нетерпение, пока поезд петлял по безлюдной провинции восточной Фракии, но первый же взгляд на огромные сухопутные стены великого города, спускающиеся к Мраморному морю, вполне искупил невзгоды странствия. Я приехал в то место, которое император Михаил VIII Палеолог называл «акрополем вселенной».
Теперь, двадцать лет спустя, изменился не только способ передвижения. Цель моего пути лежала далеко от Стамбула. По причине дорожной усталости я рассчитывал покинуть город на другой день и отправиться в пятинедельное путешествие, которое должно было привести меня из Яловы на южном берегу Мраморного моря в Каппадокию, самое средоточие Анатолийского плоскогорья.
Самолет стремительно нырнул в облака. Неприветливая морская панорама промелькнула перед глазами, и через несколько минут мы приземлились.
Влахерны и черный дождь
В мае в Турции сухо или почти сухо, но в дни нашего приезда вся страна переживала самую паршивую и дождливую весну за последнее десятилетие. Съежившийся под рваными клочьями плачущих облаков город предстал в своем самом печальном обличье. Впрочем, меланхолия – ключевое слово для Стамбула при любой погоде. Она сквозит в безликих шеренгах белесых новостроек, вышагивающих в ближние пригороды, в желто-белых пятнах сыромятен, жмущихся к стене Феодосия, в зловещей веренице закупоривающих Мраморное море танкеров, в печальных глазах торговца коврами, произносящего в никуда: «Как дела?» – и отвечающего самому себе с улыбкой: «Не очень-то…»
Первый встречный сначала глядел на небо, потом бормотал извинения. Дождь шел три недели практически без остановки. Владельцы гостиниц и кофеен, как и всевозможные зазывалы, были в отчаянии: несколько туристических автобусов из Болгарии и Румынии, забрызганных грязью выше крыши, виднелись у Святой Софии. Исторгаемые автобусами меланхолические толпы иностранцев отнюдь не горели желанием изучать те места, откуда на них в течение веков изливались потоки веры, культуры и… политических притеснений. Если их глаза и выражали что-то внятное, то разве что желание прикорнуть где-нибудь на солнцепеке, но безжалостный холодный дождь продолжал поливать гравий чайных садиков. Одни только правительственные чиновники да синоптики (которым некогда было размышлять о таинственных материях) продолжали сомневаться в том, что непогода как-то связана с нефтяными пожарами, до сих пор полыхавшими в Кувейте. Говорили, что где-то на юго-востоке прошел черный дождь.
Я много раз представлял себе нашу переправу в Азию – как можно раньше, сразу же после приезда, «когда закатное солнце золотит спокойные воды Пропонтиды…» На деле же нам пришлось долго ждать, пока реальность снизойдет к нашим скромным ожиданиям. Потоки дождя продолжали омывать город, и единственное, что оставалось делать, это направиться осматривать печальные останки Влахернского дворца, расположенного в дальнем северо-западном углу старых городских стен, в запущенном, полудеревенском квартале, известном под названием Балат. Такси высадило нас на узкой улочке, ведущей к мечети Айваз Эфенди и видневшейся за ней башне Исаака Ангела. Сложенная из гранитных плит и увенчанная павильоном, который связывали с основной постройкой фрагменты, изъятые из более ранних сооружений, эта башня – вполне подобающий памятник незадачливому императору, свергнутому и ослепленному своим еще более никчемным братом. Между мечетью и башней широкие бетонные ступени, засыпанные всяким мусором, вели к фундаменту дворца, некогда по причине своей роскоши бывшего предметом зависти всего мира.
Хотя в путеводителях говорится, что Влахерны построены в XI или XII веке, известно, что уже в VI веке на этом месте существовал дворец. Он состоял из трех просторных залов, но долгое время пребывал в тени Большого дворца, располагавшегося на противоположном конце города в местности, полого спускавшейся от Ипподрома и Святой Софии к Мраморному морю. Час славы для Влахернского дворца совпал с правлением династии Комнинов (1081–1185), когда его в качестве резиденции избрали блистательно волевые и умные императоры – Алексей I, Иоанн II и Мануил I. Последний уделял исключительное внимание украшению дворца, где в закатные годы XII века императоры и придворные получили последнюю возможность насладиться празднествами и церемониями, не стесненными соображениями исторической, политической и экономической ответственности. Стены и потолки были покрыты мозаиками, изображающими сцены из «Илиады» и греческих трагедий, а также триумфы Александра. Западные гости порой буквально теряли дар речи от изумления. Путешественник XII века иудей Вениамин из Туделы, например, был убежден, что драгоценные камни в величественной короне Мануила I Комнина, подвешенной над его троном, позволяли обходиться в ночное время без освещения. Особенно выразительно свидетельство французского монаха Одо Дейльского (также XII век), как правило едко критиковавшего все византийское. О Влахернском дворце он пишет восторженно: «Внешние фасады бесподобны, но красота внутренних покоев превосходит все, что я могу о них сказать. Повсюду, изукрашенные искусным сочетанием золота и многоцветьем всех видов камня, полы из мраморных плит, подогнанных друг к другу с изощренным мастерством. Не знаю, что и для чего является большим залогом – редкое ли искусство для большей красоты или роскошь материала для огромной стоимости».