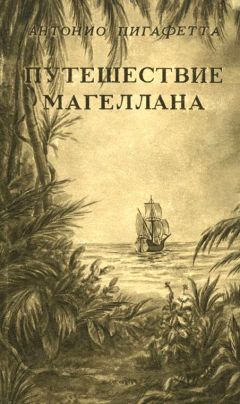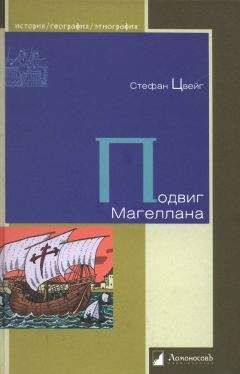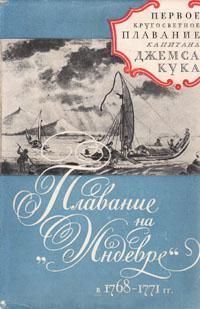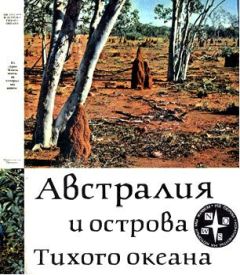Лев Маргулис - Человек из оркестра
О политике — местного и мирового масштаба — Маргулис почти не пишет. Видно, что он следил за ней, эмоционально реагируя на отдельные факты, особенно связанные с Ленинградским фронтом. Отмечал умолчания в сводках, с сомнением принимал уверения официальных докладчиков в скорой ликвидации блокадного кольца (однажды обозвал эти сообщения «болтовней»). Хотя в его круг входили люди, чуть ли не до смертного часа готовые уверять себя и других в благополучном завершении всех испытаний, их влияния он не ощущал. Впрочем, не мог понять и тех, кто (в буквальном смысле слова) сходил с ума от страха оказаться в лапах гитлеровцев. Позволял себе критику партийных начальников («живут себе неплохо и создают невыносимые страдания огромному, подавляющему большинству»), неоднократно приводил примеры бюрократической неразберихи и нечеткости в работе учреждений.
Филиал Театра оперы и балета им. Кирова, концертмейстером которого Маргулис вступил в войну, был в первый же месяц закрыт. В поисках работы и возможности эвакуироваться он вступает в контакт с другими организациями. Кратковременная связь возникает с Областной филармонией, более длительная с ТЮЗом (Театр юного зрителя)[4]. С конца 1941 года музыкант закрепляется в Большом симфоническом оркестре (БСО) Радиокомитета и разделяет с этого момента его блокадную судьбу.
В дни войны люди не выключали радио, прислушивались к нему. Ведь в первую очередь из его сообщений жители узнавали о событиях на фронте, о выдаче продовольствия, о налете вражеской авиации и артиллерийском обстреле, о новостях политики, науки, промышленности, литературы, искусства. Когда — в критический момент блокады — радио стало говорить все тише и с перебоями, а в некоторых районах умолкло (не хватало электроэнергии, трудно было ликвидировать повреждения от бомб и снарядов), — это воспринималось как тяжкая утрата. Постепенно трансляция восстанавливалась, и вновь в домах и на улицах слышались голоса дикторов и артистов, звучала музыка.
Большой симфонический оркестр был главным музыкальным коллективом и Радиокомитета, и всего города. Без его участия не могло состояться ни одно крупное музыкальное событие, включая симфонический концерт или оперный спектакль, — другие коллективы такого уровня были эвакуированы. Далее будут приведены основные сведения о творческой деятельности Большого симфонического оркестра, о знаменитой премьере Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича. Сейчас лишь напомню, что одну из первых скрипок в этой деятельности (в прямом и переносном смысле) играл автор публикуемого дневника.
Центральное место в записях Маргулиса занимают страницы, правдиво отражающие состояние города и его жителей в кульминационный момент блокады (зима 1941/42 года). Введено так называемое «казарменное положение», и Маргулис живет то в общежитии Радиокомитета — в комнате № 30 на шестом этаже, то дома — в коммунальной квартире № 4, дома № 10, по 5-й линии Васильевского острова. Легко проследить его маршрут: с 5-й линии через один из мостов — Лейтенанта Шмидта (ныне Благовещенский) или Дворцовый — в центр города, на Невский проспект (официальное название — Проспект 25 октября), по улице Ракова (ныне Итальянская) или улице Пролеткульта (Малая Садовая, на их пересечении находился Радиокомитет), через Моховую (здесь ТЮЗ) на Литейный проспект к Дому Красной армии. В наши дни большинство этих мест входит в излюбленные маршруты прогулок жителей и гостей города. Но вот какими они описаны на одной из страниц дневника: «…Жуткое зрелище представляет город своими руинами от авиабомб, забитыми окнами, подбитыми трамваями и оборванными проводами от обстрелов, баррикадами, с бледными, качающимися, еле идущими, хмурыми жителями его, идущими, исхудалые донельзя, по улицам десятки верст от дома на работу и обратно или на промысел съедобного, типа дуранды, с постоянно встречающимися гробами и покойниками без гробов, с его громадными очередями». В подобных фрагментах бытописание проникнуто антивоенным пафосом. Исполнены драматизма и страницы, связанные с общежитием в Радиокомитете. Голодные, слабеющие, умирающие мужчины. Пронизывающий холод. Хорошо, если сосед ушел домой или на дежурство, — можно использовать его матрас, одеяло. Люди моются лишь изредка. Работы нет — большинство обитателей оркестранты, а оркестр не функционирует — условия блокады вынудили прервать его деятельность. Наконец поставили печку, начали ломать мебель — стало теплее. На печке что-то готовили — каждый сам для себя. «Здесь как в бреду все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели», — писала о тех днях Ольга Берггольц (она тоже жила в Радиокомитете — этажом выше). Запах приготовляемой пищи был тяжким испытанием для тех, кто ничего не имел. К весне 1942 года в оркестре умерло двадцать семь человек — почти треть состава.
Весной жизнь полегчала. Отмечает это и Маргулис, как и ранее оставаясь в основном на уровне бытовых подробностей. Оркестр получил от властей города продовольственную поддержку, возобновил свою деятельность. Возвращение к музыке было возвратом к жизни. Вместе с обновленным коллективом скрипач вновь приобщился к повседневной трудовой жизни человека из оркестра, вернулся на концертную эстраду, получил также возможность сольных выступлений. Пережил триумф блокадной премьеры Седьмой симфонии и других значительных премьер. Дождался прорыва (январь 1943-го), а затем (январь 1944-го) и полного снятия блокады. Не сразу поверил в прочность перемен.
По мере того как пульс жизни стал биться ровнее, ослабевал интерес Маргулиса к дневнику. Ощущение новизны и драматизма происходящего, стимулирующее появление записей, притупилось. Все реже он доставал заветную тетрадь. Последние записи в ней — 7 мая и 2 сентября 1942 года, 29 января 1943-го.
Годы блокады врезались в память ленинградцев. Оставили глубокий след как время высокой трагедии, где гибельному началу противостояло предельное напряжение сил, мобилизация духовных резервов, активизация творческой энергии. Многие свидетельствовали о том, что 900 дней осады были в их жизни особым, по-своему ярким периодом, своего рода «эпохой пик». Образно выразила это корреспондентка Б. Пастернака, его двоюродная сестра О. Фрейденберг (письмо написано 7 августа 1942 года — как бы специально в преддверии премьеры Седьмой!): «…Казалось, душа изомнется. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли: и жив курилка! Поднимается опять страсть, и пеплом пылится отвратительная псевдореальность, и мираж как раз она»[5].
Два примера из области музыки. «Живем полной жизнью как никогда», — написала на Большую землю С. П. Преображенская (любимая ленинградцами певица 12 апреля 1942 года выступила в сопровождении оркестра Радиокомитета и имела большой успех). «Как бы распелась ты здесь, в Ленинграде», — такие слова адресовал другой вокалистке 17 ноября того же года ее поклонник. Он чуть ли не сожалеет, что она эвакуировалась![6]