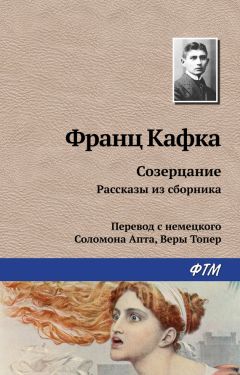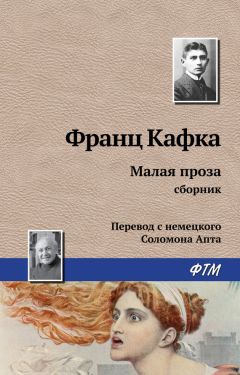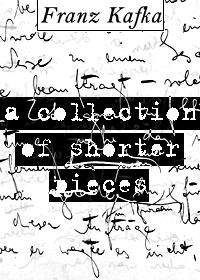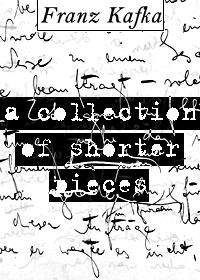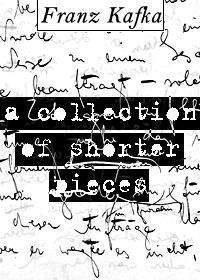Макс Брод - Франц Кафка. Узник абсолюта
Печаль и тяготы своих ранних лет («тяжелый, как земля» или «тяжеловес» – Кафка получил это прозвище по другому случаю) Франц описал в своем дневнике 1911 г.:
«Когда я иногда думаю о своих школьных годах и даже о более раннем времени, мои воспоминания расплывчаты. Я полагал, что моя память льстит мне и что моя мысль весьма ленива, когда я думаю о вещах, самих по себе не важных, но имеющих большие последствия. Так, я помню, что когда я учился в средней школе, то часто спорил с Бергманом (иногда не вполне основательно, и тогда я быстро уставал) о том, следует ли мне руководствоваться своим внутренним ощущением относительно существования Бога или руководствоваться Талмудом. В то же время я любил спорить по поводу статьи, изложенной одной христианской газетой – по-моему, это была «Die christliche Welt»[1], – в которой часы и мир сравнивались с часовщиком и Богом, и существование часовщика предположительно доказывало существование Бога. Я считал, что могу опровергнуть эту точку зрения в глазах Бергмана, хотя опровержение не вполне логически созрело во мне, и для начала, прежде чем излагать его, я должен был сложить в своем уме его составные части, как сложную головоломку. Но мое опровержение все-таки было изложено – как раз тогда, когда мы гуляли около башни с городскими часами. Я помню это столь отчетливо потому, что мы напомнили об этом друг другу всего лишь несколько лет назад. Но тогда, когда я думал, что преуспел в этом, – на деле это было всего лишь желание преуспеть, наслаждение в поисках истины и в самой истине, которую я лишь предполагал найти; это было лишь оттого, что я не задумывался глубоко о своей плохой одежде, которую мои родители шили то у одного, то у другого портного, но самым постоянным был все-таки портной из Насла. Я, конечно, замечал (что было совсем не трудно) свою плохую одежду, но мой мозг в течение многих лет отказывался признавать, что одежда отвечает за мою жалкую наружность. Но когда я стал критически оценивать, а скорее недооценивать себя – больше в своем сознании, чем в реальности, – я начал убеждаться в том, что именно моя одежда, а не чья-нибудь другая, либо топорщится, как жесткая бумага, либо висит смятыми складками. Новая одежда мне вообще не была нужна; и если я в любом случае выглядел убого, мне хотелось по меньшей мере хотя бы чувствовать себя комфортно, и в дальнейшем, по мере привыкания окружающих к моей старой одежде, не шокировать мир убогостью новых одеяний. В конце концов, этот постоянный отказ от новой одежды, в которую моя матушка время от времени пыталась меня одеть, принес ей, обладающей взглядом взрослой женщины, понимание разницы между старым и новым платьем, их влиянием на меня, и в то же время (при одобрении моих родителей) я не мог сказать, что совсем не заботился о своей наружности. В конце концов, я позволил своей плохо сшитой одежде определять мою осанку и ходил с согнутой спиной, сутулыми плечами, не зная, куда девать свои руки. Я боялся зеркал, потому что считал, что они показывают мою неприкрытую убогость, которую более наглядно и нельзя было отразить, и если я и на самом деле так выглядел, я должен был вызывать еще более пристальное внимание окружающих. На воскресных прогулках я получал от своей матери легкий тычок в спину с предостережениями (которые, впрочем, едва доходили до меня) о том, что я могу навлечь на всех массу неприятностей. В целом мой главный недостаток состоял в том, что я был не в состоянии представить себе даже самое ближайшее будущее. Я твердо сосредотачивался на сегодняшних обстоятельствах, и не потому, что испытывал к ним сильный интерес, а скорее из-за грусти и страха, возникшего вследствие той же грусти, что действительность настолько печальна, что я не могу оставить ее, пока она не превратится в радость; из-за страха, что, если я сделаю малейший шаг, я буду считать себя ни к чему не пригодным, по-детски беспомощным, но серьезно и ответственно формирующим свое мнение о взрослом будущем, которое в любом случае представлялось мне столь невозможным, что любое малейшее продвижение к нему казалось обманом и еще раз подтверждало его недостижимость.
Миражи мне были более доступны, чем обычная реальность, и я никак не мог оставить фантазии в своих сферах, а реальность – в своих. В результате я проводил много времени без сна в постели, представляя себе, как в один день я приеду в наше гетто как богатый человек, в экипаже, запряженном четверкой лошадей, с прекрасной девушкой, которую я только что спас от позора и унижения. Но мало потревоженный этими фантазиями, которые, возможно, были не чем иным, как проявлением не вполне здоровой сексуальности, я больше волновался о том, что не выдержу годовой экзамен и меня не переведут в следующий класс, что я не смогу поступить в высшее учебное заведение и рано или поздно – не важно, в какой момент это произойдет – мои родители, не так давно пестовавшие меня для будущей жизни, и весь остальной мир вместе с ними, вдруг внезапно поразятся моей неслыханной бездарности. И оттого, что я смотрел на будущее с осознанием своей беспомощности (и редко переживая по поводу своих слабых литературных работ), мысли о нем не приносили мне никакой пользы, они лишь слегка развеивали печаль. Если я хотел, то держался прямо, но не понимал, как развернутые плечи могут повлиять на мою дальнейшую судьбу. Если мне и суждено какое-то будущее, думал я, то оно и так придет само собой. Это убеждение я выбрал себе не для того, чтобы обрести уверенность в будущем, в существование которого с трудом верил, а для того, чтобы облегчить себе настоящую жизнь.
Я решил гулять, одеваться, мыться, читать – кроме всего прочего, что происходило уединенно в моей комнате, – так, чтобы это причиняло мне как можно меньше беспокойства и не требовало никакого напряжения. Если я отклонялся от этих принципов, то придумывал себе подчас очень несерьезные отговорки. Но настало время, когда мне невозможно было более оставаться без вечернего костюма, в особенности потому, что мне предстояло решить – идти мне или нет заниматься в танцевальный класс. Из Наcла был призван портной и был обсужден покрой костюма. Как всегда в таких случаях, я не мог ни на чем остановиться, потому что боялся – если я приму какое-то решение, оно не только вынудит меня сделать какой-то неприятный дальнейший шаг, но и повлечет за собой некие более неприятные последствия. Поэтому прежде всего я решил, что у меня не будет черного костюма; и так как мне было очень стыдно оттого, что незнакомые люди смотрели на меня как на человека, не имеющего никакой вечерней одежды, я позволил своим близким поднять этот вопрос. Но поскольку я осознавал, что вечерний костюм совершит революцию в моем сознании, о чем мои родные догадывались, но вполне этого не могли понять, было все-таки решено сшить мне пиджак к обеду, который я, по крайней мере, был готов носить, потому что он имел сходство с обычным пиджаком. Но когда я услышал, что пиджак будет иметь глубокий вырез, что предполагало ношение отутюженных рубашек, я сразу же настроил себя против такого пиджака, зная, что это не вызовет одобрения моей семьи. Но я был против такого фасона, я был готов носить пиджак из шелка или пиджак, облицованный шелком, но с высоко застегивающейся верхней пуговицей. О таком обеденном пиджаке наш портной никогда и не слышал, но он не преминул заметить, что, какой бы фасон я ни придумал, он все равно не подойдет для занятий танцами. Хорошо, он не годился для танцевальных целей, но я вообще-то и не собирался танцевать. Этот вопрос был вообще-то далек от существа дела, потому что я хотел иметь пиджак в точности такой, каким его описал. Портной с трудом понимал мои соображения, потому что я примерял одежду со стыдливой поспешностью, без высказывания каких-либо комментариев или пожеланий. Поэтому единственно, что мне оставалось делать (тем более на этом настаивала моя матушка), – это в невероятном смущении пойти с ним на Старую площадь и показать пиджак, который я заприметил в витрине одного магазина. Этот безобидный пиджак висел там довольно долгое время, но, к несчастью, когда мы пришли, я не смог там его обнаружить, даже несмотря на мои усердные попытки разглядеть его внутри магазина. Зайти же в сам магазин в поисках пиджака я не отважился, поэтому мы вернулись домой в том же состоянии неопределенности. У меня, однако, осталось ощущение, что эта неудавшаяся попытка наложила печать проклятия на будущее обеденного пиджака; по крайней мере, я с раздражением слушал все эти невнятные извинения, приносимые отсылаемому прочь портному по поводу столь незначительного заказа, и стоял, усталый, за спиной матери, которая грозилась навсегда (все, что относится ко мне, сопровождалось словом «навсегда») оградить меня от красивых девушек и футбольных мячей. Радость, которую я при этом испытал, смешивалась с отчаянием, потому что я боялся, что выглядел в глазах портного таким болваном, каких он в своей жизни еще не видал».