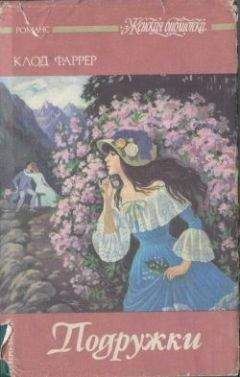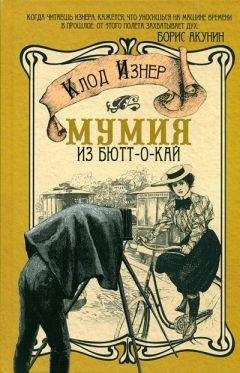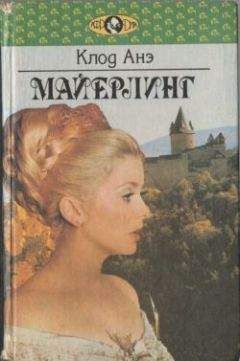Клод Лелуш - Баловень судьбы
— Это шедевр. В субботу вечером я покажу его в Синематеке.
Мне кажется, я теряю сознание от счастья. Мне двадцать два года, что наверняка, делает меня одним из самых молодых режиссеров всех времен, и я вступаю в Синематеку, словно в Пантеон (он, кстати, в двух шагах от нее). Пока я бегу в Сантье, к другу моего отца, чтобы просить его сшить белый смокинг, достойный моего посвящения в сан кинорежиссера!
«Ланглуа сказал, что это шедевр… Ланглуа сказал, что это шедевр…»
Я могу лишь цепляться за эту фразу, когда через четыре дня свист и шиканье зрителей смоют все мои мечты потоком оскорблений. На вечернем субботнем сеансе зал всегда полон. Это масса приглашенных Ланглуа парижских интеллектуалов, самых заядлых кинолюбителей и — разумеется — критиков. Начиная с самых грозных, пишущих в знаменитых «Кайе дю синена». Ни один из них не пропускает эту еженедельную встречу. Тем более если Анри Ланглуа собственной персоной поддерживает, что он и делает, первый фильм молодого режиссера: считается, что этот фильм не может не быть интересным. Разве может случиться такое, что руководитель Французской синематеки окажется единственным в мире человеком, кому нравится мой фильм? Не имея возможности задать Анри Ланглуа этот вопрос, я жду, когда зал опустеет, и отправляюсь в кабину киномеханика забрать мои ролики. Именно от него я и узнал подноготную всей этой истории. Анри Ланглуа, пожирающий пищу, словно людоед, имеет обыкновение после обеда устраивать себе пищеварительную сиесту. Прошлый вторник на протяжении всего показа моего фильма он спал глубоким сном! Почему же тогда он решил включить в программу Синематеки фильм, из которого он не видел ни одной минуты? Вероятно, чтобы подстраховаться. На тот случай, если упомянутый молодой кинорежиссер окажется талантлив. Он не хотел рисковать, чтобы позднее слышать упреки в том, что он проморгал Лелуша. Я, во всяком случае, именно так все это и понимаю.
Зато меня не проморгал «Кайе дю синема». Ведь в ближайшем номере кто-то, мне не известный, написал слова, отметившие меня каленым железом: «Клод Лелуш… Хорошенько запомните это имя. Больше вы не услышите его никогда». Вместо критики мой фильм удостоился лишь этих трех строчек. Обладай я хоть малейшим здравым смыслом, я забросил бы свою камеру в дальний ящик и поискал бы себе «настоящую» профессию но здравый смысл не в моем характере.
Несмотря на нанесенное мне откровенное оскорбление, я показываю мой фильм в парижском Институте художественного и экспериментального кино. Я первый удивлен тем, какой прием он там встретил. Некий Морис Лемэтр,[1] литератор, счел «Человеческую сущность» «интересным» фильмом. Его анализ даже выявил нечто такое, что от меня ускользнуло.[2] На основании этого положительного отзыва Институт решил включить мой фильм в программу экспериментального кинотеатра на улице Комартен. Он шел там неделю, в течение которой в зале оказывалось десятка два, не более, зрителей; вероятно, их туда загонял дождь. Фильм вскоре перестали показывать, сняли с афиши, приговорили к погребению в его металлическом гробу.
Однако… Через два дня телефонный звонок дал авантюре новый импульс. Человека, который мне звонил, звали Бронберже.[3] Во французском кино он был тем, кем для Голливуда в его героическую эпоху были Дэррил Занук[4] или Луи Б. Мейер[5] Продюсер Ренуара, Рене Клера, Бюнюэля, Л'Эрбье, первых фильмов Александра Астрюка, Алена Рене, Франсуа Трюффо был просто-напросто Продюсером в полном смысле слова. Он сообщил мне, что смотрел мой фильм, а это уже само по себе было поразительной новостью. Он не скрыл от меня, что нашел фильм неудачным (противоположное было бы куда более ошеломляющим), но, по егo мнению, все-таки сумел разглядеть в «Человеческой сущности» кое-какие достоинства. Отдельные планы даже навели его на мысль, что я не совсем лишен таланта. Короче, он считает меня способным поставить другой фильм. Бронберже предлагает мне зайти к нему в офис. Я бросаюсь туда. Там меня ждал ушат холодной воды, когда знаменитый продюсер предложил мне урезать мой фильм, чтобы сохранить самое лучшее. То, что он называет «лучшим», после склейки не превысит размера короткометражки. Но зато она будет «маленьким шедевром», уверяет он. Меня возмущает перспектива увидеть мой фильм на обрезном станке, и я категорически отвергаю это предложение. Бронберже, понимающий пылкость моей молодости, на меня не сердится. Я же открываю в нем человека, свободного от предрассудков, способного противостоять враждебным ветрам и брать ответственность за свои мимолетные увлечения. Эта благожелательность по отношению ко мне не мешает ему быть откровенным и предупредить меня, что в течение долгих лет мне, словно клеймо Позора, придется носить на своем имени тот вечер в Синематеке.
— Если бы вы показали мне ваш фильм раньше, — сказал он, — я бы вам категорически отсоветовал демонстрировать его в таком виде. Вам долго придется приходить в себя. Отныне вам приклеили ярлык, вас упрятали в ящик, из которого вам будет практически невозможно выбраться.
Но за несколько секунд до того, как я окончательно пал духом, он предсказывает, что именно эта неудача придаст мне силу.
— Силу, которая, может быть, позволит вам делать иные фильмы, — говорит он. — Вся ваша жизнь уйдет на то, что вы будете расплачиваться с интеллигенцией за этот катастрофический показ. Но именно это заставит вас двигаться вперед.
В заключение он протягивает мне ключи от рая:
— Я был бы рад работать с вами.
Эта фраза перевернула мою жизнь.
Вопреки тому, что Пьер Бронберже высказал мне о «Человеческой сущности», вопреки уважению и восхищению, какие он у меня вызывает, я, несмотря на его мнение, упорно, любой ценой хочу найти прокатчика моему фильму. Мной движет не только гордость: «Человеческая сущность» поглотила то немногое, чем я располагал, и оставила меня в долгах. Выход фильма на экран, может быть, помог бы мне их выплатить. Я уже безуспешно попытался обобрать столицу. Теперь необходимо обратить взор на заграницу. Фестиваль вроде Венецианского, например, представлял собой еще невозделанное поле, имело смысл отправиться туда на охоту за прокатчиками. Фестиваль открывался через несколько дней. Все мое состояние заключалось в стареньком «Аронде»[6] и роликах моего фильма. Денег же я взял ровно столько, чтобы их хватило на бензин до Венеции. Ко времени отъезда мне даже не удалось найти друга, чтобы тот морально поддержал меня в этой экспедиции.
Приехав, я обосновался в единственном отеле, который был мне по карману, — в кемпинге Венеции! Оставалось найти зал, где можно было бы принять иностранных кинопрокатчиков. Они, я в этом не сомневался, толпой хлынут на просмотр. В конце концов я отыскал догадливого человека, киномеханика одного из крохотных кинотеатров города дожей. За крайне скромную сумму он согласился устроить один-единственный сеанс моего фильма, который должен был состояться на следующий день, вечером, между семнадцатью и девятнадцатью часами.