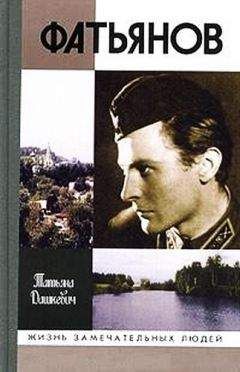Лев Дуров - Странные мы люди
И вот когда автор начинает перебирать все эти записки на обрывках бумаги, на ресторанных салфетках, на разодранных сигаретных пачках, то вдруг обнаруживает, что перед ним драгоценные кусочки смальты, которые не нуждаются ни в какой обработке, их нужно просто наклеить на некую основу, и мы увидим не приукрашенную гримом физиономию эпохи. Такой, какая она есть на самом деле. С прыщами, может быть, небритую и с сизым носом. А может, это будет образ красавицы с широко распахнутыми голубыми глазами, которые смотрят на мир с детским простодушием. Кто знает — это уж как камешки лягут. А может, зритель и сам расположит их по своему усмотрению, так, как и что ему захочется видеть.
И тут у меня родилась идея. Я никогда не вел дневники и не поверял бумаге свои мудрые мысли и глубокомысленные изречения. Я их забрасывал в темный чулан, который находится у меня под черепной коробкой, и по мере надобности, конечно, если мог найти, вытаскивал на свет божий. Потери я не замечал. Да и как можно заметить потерю того, о чем не помнишь! С годами эти потери я стал ощущать. Я почувствовал, что в той мозаичной картине мира, которую я себе представлял, не хватает каких-то кусочков смальты и образуются «белые пятна», которые не заполнить никаким воображением, как бы сильно оно ни было развито.
И вот тогда я подумал: каждый человек создает свою картину мира, которая не похожа ни на одну другую. Это может быть натюрморт с персиками, а может быть и «Гибель Помпеи». Но одна без другой существовать просто не могут — это нарушит ту гармонию, которая и держит все сущее в устойчивом равновесии.
И я с присущей мне скромностью («Я негодяй, но вас предупреждали! «) решил, пока не поздно, пока еще не растеряны все кусочки смальты, внести свою лепту в дело сохранения мирового равновесия и вывесить свою картину в галерее, в которой уже заняли свои места Элиан и Пушкин, Солоухин и Астафьев. Авось она поможет избежать мировых катастроф.
А благодарности за это я у человечества не прошу — лишь бы всем было хорошо и все жили счастливо.
Вацлаву Нижинскому не нравились в шекспировских клоунах «злобные черты», которые отдаляют их от Бога. Сам себя великий танцовщик называл Божьим клоуном. В Англии меня называли трагическим клоуном. А это амплуа по своему характеру может вызвать лишь сострадание, сопереживание, но никак не отвращение. Поэтому в своем портрете времени я постараюсь избегать те краски, которые могли бы придать ему «злобные черты».
«Нельзя объять необъятное», — говаривал незабвенный Козьма Прутков. Я всегда помню эту мудрую мысль. Но такова уж человеческая натура — все-то она берет под сомнение. Вот и аз грешный усомнился: а так ли уж она постоянна, эта человеческая натура? А что, если сравнить век нынешний и век минувший? Изменились ли люди? И если изменились, то в лучшую или худшую сторону? Давайте понаблюдаем вместе.
Ехал я как-то в поезде; и одна ситуация напомнила мне дореволюционный анекдот, когда-то читанный в старой-престарой книжице. Дело было тоже в поезде, и в купе сидели муж с женой и кучей ребятишек. которые разбаловались. Один пассажир, к которому двенадцатилетний отпрыск прыгнул на колени, не выдержал и обратился к родителям: урезоньте, мол, своего парня. А отец как-то интеллигентно ответил, что, мол, дети есть дети, к тому же сегодня воскресенье и почему бы им не побаловаться. На что пассажир сказал: «Чтобы ребенок веселился в воскресенье, по будням его надо пороть, что вы, наверное, не делаете». Это была, конечно, шутка.
А теперь представьте себе этот диалог в наше время. Если бы двенадцатилетний парень полез по коленям дяди к окну и ему бы сделали замечание, что бы он услышал? «Да ладно! Сиди, козел! Что тебе, ребенок помешал?» — «Как вы со мной разговариваете?» — «А как мне с тобой, козлом, разговаривать? Пойдем-ка выйдем в тамбур, там поговорим! „ — «Да пошел ты на! .. по! ..“ — «Чево-о?! « И уже, не стесняясь ни детей, ни пассажиров, пошло бы такое! ..
Так что, думаю, нравы диктуют и тональность таких диалогов. Все становится страшнее, грубее и грубее. Страшно, на самом деле, как мы падаем...
Я вот смотрю на старинные фотографии и думаю: нет, все-таки лица другие. Не только лица аристократов, офицеров. Вот я увидел фотографию своего дядьки времен империалистической войны. Боже мой, какое лицо, какая выправка, как он стоит, какое выражение глаз! Красивый офицерский мундир, красивое оружие — все просто замечательно! А вот солдаты идут на фронт — изумительные лица! Никакого сравнения с нынешними типажами.
Но это так, к слову. Я ведь об анекдотах. Я вначале как-то стеснялся и слушать их, и рассказывать. Потом понял, что зря. Вот у Юрия Никулина был кладезь анекдотов. По ним можно было проследить всю историю нашей страны, международные отношения, они давали емкие и точные характеристики историческим личностям, в них можно было найти тонкие и остроумные замечания о личности в себе и о личности в обществе. Ведь человек, в сущности, переживает не одну жизнь, а несколько.
Взять хотя бы мою профессию. Зритель видит лишь ту жизнь актера, которую он играет или на экране, или на сцене. Но ведь мы и сами показываем не свою жизнь, а жизнь своего героя. А потом мы уходим за кулисы, где уже совсем иная жизнь: отношения между актерами, сплетни, байки, воспоминания, приколы. И эта закулисная жизнь не менее интересна, чем сценическая. И наверняка у человека есть еще и третья, и четвертая жизни. И еще какая-то настолько тайная, что он до конца дней своих носит ее в себе, не посвящая в нее даже самых близких людей.
Господи, вот к чему могут привести размышления о, казалось бы, незначительном анекдоте, шутке. И я решил найти первоисточник. Не сразу, но — нашел!
Сто раз я уже успел забыть эту книгу: твердая обложка цвета египетской мумии с размытыми пятнами, будто кто-то плакал над ней. Пожелтевшие странички с жеманным текстом, пестрящим «ятями». Еще бы! Ведь ей, старушке, исполнился ровно век с тех пор, как она родилась в С.-Петербурге и попала на склад некоего книгопродавца И. Иванова, обретающегося на Литейном. Тираж не указан, и потому я не могу с уверенностью утверждать, что являюсь обладателем единственного экземпляра этого уникального издания, уцелевшего после двух мировых войн. Может, ему и цены нет.
Называется книга «Современники», а вместо фамилии автора набрано: ИНКОГНИТО. В кратком предисловии этот Инкогнито сразу предупреждает: «Это — анекдоты!» И через несколько абзацев выдает мысль, за которую я сразу ухватился, ибо она легла во взрыхленную почву: «Говорят, что по анекдотам изучают характер века и нравы общества».
Мысль не первой свежести — ей полторы тысячи лет, если считать со времен Прокопия Кесарийского, к «Тайной истории» которого впервые применили в литературе термин анекдот, что с греческого переводится как неизданный. Сейчас, когда сборники анекдотов выходят десятками, это звучит, конечно, смешно. Но что делать! Идет время, слова ветшают, а то и вовсе меняют свое знаковое значение. Да и сам Инкогнито оговаривается: «Наши анекдоты — маленькия безпретензионныя картинки, а иногда даже каррикатуры. Они написаны штрихами и, как любят выражаться нынешние зоилы, „протокольным способом“.