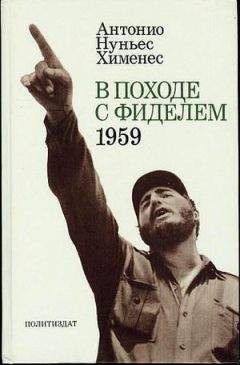Михаил Ольминский - В тюрьме
Порою вдруг сквозь броню привычной суровости прорывается глубокое поэтическое чувство, неожиданная метафора свидетельствует о ярком литературном даровании. «В марте зима только при появлении небесного начальства начинала плакать и прикидывалась умирающей. А чуть солнце за угол, – зима тотчас вновь спешила гвоздить, точно хотела навеки заковать в кандалы несчастную землю». Такой образ мог родиться только у плененного революционера, это образ борьбы, образ сопротивления.
Это неустанное и постоянное сопротивление сохранило личность революционера. Торжествующими строками провозглашает он свою победу:
«Тюрьма хочет задушить меня, – так нет же! Назло тюремщикам, сегодня мой вечер… Моей насмешкой будет мир души моей, взятый с бою. Я уйду только к окну, но буду далеко от вас. Смотрите: даже тюремный двор шепчет сегодня о жизни, любви и молодости!» (стр. 57). «Придет и наше время» (стр. 59).
К стойкости, к воспитанию воли призывает замечательная книга старого большевика Михаила Степановича Ольминского. И хочется, чтобы молодежь нашего времени испытывала не только благоговение и преклонение перед образами старых революционеров, но чтобы она сумела усвоить у них несгибаемую стойкость, их преданность идеям коммунизма, их настойчивость в борьбе за осуществление этих идеалов. В работе у станка, в учебе, в осуществлении великих задач подъема сельского хозяйства нашей молодежи приходится попадать в условия достаточно трудные. Но в их борьбе каждому бойцу помогает та сила, которая не могла прийти на помощь поколению М. С. Ольминского, – великая мощь Советского государства.
Юрий Лебединский
I . ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
– Административная высылка – это не наказание, а только мера предупреждения и пресечения преступлений, – любезно объяснял мне товарищ прокурора. – Поэтому вы и не подвергаетесь никаким ограничениям прав и преимуществ.
Утешенный мыслью, что многолетняя ссылка в тундры Восточной Сибири не наказание, я стал ожидать с нетерпением, когда окончится период… опять-таки «не наказания» и не политического преследования, а только меры предупреждения на тот случай, чтобы не подлежащий наказанию человек не уклонился от «следствия и суда», которым он не подлежит. Эта предварительная «мера предупреждения» выразилась по отношению ко мне только в девяти месяцах жизни в Петропавловской крепости и двенадцати месяцах пребывания в доме предварительного заключения, – все время в строжайшем одиночном заключении.
Понятно, с каким нетерпением я и мои товарищи ждали объявления «предупредительного повеления»: путешествия по этапам, жизнь в Сибири – все это рисовалось воображению как освобождение. Относительно себя лично я упустил из виду только эластичность и легкую изменяемость российских законов во всех тех случаях, когда дело коснется… не наказания, нет… а мер предупреждения и пресечения. Закон определяет срок административной высылки в пять лет. Я упустил из виду, что «предупредительная практика» удлинила этот срок до десяти лет плюс еще пять лет одиночного заключения. В экстренных случаях эта же практика поднималась до заключения в Шлиссельбургской крепости на пять лет, с тем что в самый день окончания срока человеку, уже мысленно считавшему себя на воле, объявляют опять-таки только как о предупредительной мере о продлении срока еще на пять лет, как это было с Лаговским.
Да, я упустил из виду все эти мелочи. Мне о них напомнили. После почти двухлетней одиночки, когда я с минуты на минуту ждал если не освобождения, то все-таки возвращения в среду товарищей и близких, мне объявили «меру предупреждения»: три года одиночного заключения и пять лет ссылки в Восточную Сибирь, – конечно, без ограничения прав свободного человека!
Хотелось бы без ложного стыда, без боязни упреков в малодушии, но и без преувеличенных жалоб на тягость заключения воспроизвести душевные переживания этих трех лет существования без жизни.
В последние дни января, в те дни, когда солнце особенно радостно играет снежным покровом Невы после декабрьской туманной полутьмы, мгновением по дороге от дома предварительного заключения мелькнула передо мною уличная суета, и карета остановилась у ворот одиночной тюрьмы. Между двумя конвойными я вышел на улицу.
– Обожди, – сказал старший.
– Не обожди, а обождите!
– Все равно.
– Вовсе не все равно. Вы унтер-офицер, а не знаете своих обязанностей. Я сейчас буду жаловаться начальнику тюрьмы.
Я постепенно возвышал голос. Прохожие начали останавливаться. Нахал конвоир поспешил переменить тон.
– Потрудитесь обождать!
Не помню уже, из-за чего пришлось ждать. Затем мы вошли в ворота, прошли небольшой двор и поднялись по широкой лестнице с мраморной доской.
В конторе один угол отгорожен деревянной решеткой; на скамейках в этом углу ожидало приемки человек пятнадцать уголовных. Преобладали крестьянские лица и деревенские костюмы. До сих пор приезд и отъезд из тюрьмы сопровождались для меня полной таинственностью и некоторой торжественностью. Попав теперь в кучку людей, я с интересом осматривал и своих соседей и длинный ряд канцеляристов, занятых в той же комнате. Было почти приятно почувствовать себя на минуту не драгоценной жар-птицей, которую прячут от людских взоров. Неприятно – напротив того, унизительно – почувствовалось при виде деревянной решетки: точно загородка для скота! К тому же у решетки не было ни часового, ни специально приставленного надзирателя, – опять будто проявление пренебрежения к арестованным.
– Вы на сколько осуждены? – спросил я молодого рабочего, сидевшего рядом на лавке.
– Пустяки. А вы? – На три года.
Арестантам, которые начали прислушиваться к нашему разговору, стало, по-видимому, неловко. В голосе рабочего послышалась особенная нотка участия, когда на повторенный вопрос о сроке он ответил:
– Стыдно и сказать… Три года! Тут попадешь на три месяца, и то не знаешь, останешься ли жив.
– Эй, отойди там, – раздался окрик начальства из дальнего конца комнаты. Арестанты отхлынули. Несмотря на неприятность окрика, я все-таки с удовольствием отметил для себя, что строгое начальство предпочло не обращаться непосредственно ко мне: очевидно, побаиваются. Через минуту молодой рабочий, оказавшийся позолотчиком, опять приблизился.
– Может быть, будет манифест, – пытался он утешить меня.
– Манифесты к нам не применяются.
– А мне скинули прошлый раз. Я читал, что и вашим тоже полагается…
– А вы уже были здесь? Знаете порядки?