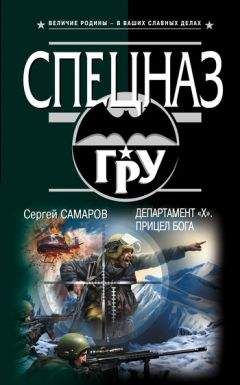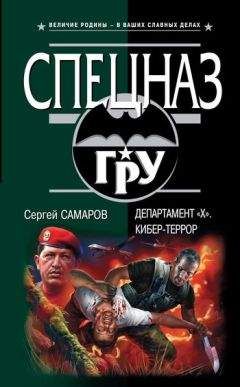Марк Алданов - Азеф
Мы все учились понемногу, впечатление в ученом споре можно было в крайнем случае произвести и одной «искренностью», — а уж искренности у этого человека было достаточно.
Под конец его карьеры положение Азефа стало очень трудным. Он должен был убивать и выдавать, убивать и выдавать; напрягая все силы для соблюдения наименее опасной пропорции выданных и убитых людей…
В одном из французских монастырей есть картина «Наказание дьявола». Дьявол обречен держать в руках светильник, похищенный им у св. Доминика; Светильник догорает, жжет пальцы дьявола, но освободиться от него дьявол не имеет силы: он может только, корчась, перебрасывать светильник из одной руки в другую, — жжется то правая, то левая рука. Приблизительно в таком положении был Азеф к моменту его разоблачения.
IV
Кто разоблачил Азефа?
Известно, говорят, имена пяти женщин, «на руках которых скончался Шопен». Я не хочу сказать, что разоблачение великого предателя дало повод к сходному спору. Шутка совершенно не соответствовала бы трагическому характеру события (как, впрочем, и в вопросе о кончине Шопена). Но когда будущий историк займется выяснением того, кому именно принадлежит здесь авторское право, он должен будет перебрать не менее десяти имен.
У нас есть сведения, что один из профессоров Азефа по политехникуму выразился о молодом студенте так: «Ах, этот шпион!» К сожалению, не дошло до меня имя немецкого профессора, далеко превзошедшего проницательностью и революционеров, и Департамент полиции.
Летом 1905 г. один из видных петербургских социалистов-революционеров Ростковский получил на службе письмо без подписи, в котором его извещали, что в партии есть «серьезные шпионы», «бывший ссыльный некий Т. и какой-то инженер Азиев, еврей». Когда Ростковский вернулся со службы домой, у него в гостях сидел известный ему под кличкой «Иван Николаевич» важный нелегальный гость — Азеф. Не долго думая, Ростковский показал гостю письмо. «Иван Николаевич» прочел и заявил: «Т. это Татаров, а Азиев — это я, Азеф».
И Ростковский, и вожди партии не придали значения анонимному письму. Но какое самообладание, какие нервы нужны были, чтобы ничем себя не выдать при такой неожиданности и ограничиться саркастическими словами: «Азиев — это я, Азеф»! Вот и суди о тех «сюрпризцах», которыми, вслед за Порфирием Петровичем, хитрые следователи оглушают подозреваемых в преступлении людей.
Сходный случай произошел, по рассказу П. О. Ивановской, в Женеве на встрече Нового (1905) года. Русская колония революционеров была в полном сборе. «Говорились пламенные, дерзкие речи, с вдохновенными лицами, молодежь пела и кружилась в обширном зале. Азеф гулял по залу и любовался молодежью. Когда речи, пение и танцы надоели, сели играть в почту. Азеф не прочь был поиграть и в почту. Ему принесли письмо. Он раскрыл и «самоуверенно-снисходительно» прочел вслух; в письме называли его подлецом, негодяем и предателем.
Подозрения против Азефа высказывали в разное время Крестьянинов, Мельников, Мортимер, Делевский, Агафонов, Тютчев, Трауберг. Вожди партии, от Гершуни и Гоца до Чернова и Савинкова, относились, повторяю, пренебрежительно к таким обвинениям; за это впоследствии их самих всячески поносили в разных революционных и нереволюционных кругах. «Хороша же партия, где подобные субъекты могут вращаться шестнадцать лет», — сказал защитник Лопухина А. Я. Пассовер. Теперь к этому можно отнестись вполне объективно. Неосторожность и легковерие были, но преувеличивать их не надо, — столь же неосторожен был ведь и Департамент полиции, учреждение далеко не легковерное. Чужая душа — потемки, и никто не обязан уметь в чужой душе читать. Громить Савинкова за то, что он не распознал провокатора в Азефе, так же странно, как, например, обвинять В. В. Шульгина за его памятную поездку в Россию. В настоящее время мы все, конечно, окружены тайными большевистскими агентами. Об иных знакомых и нам когда-нибудь будет неловко вспоминать.
Что и говорить, Ю. Делевский в свое время собрал немало улик против Азефа. Но давно известно, и психология палка о двух концах, и улики, даже самые серьезные, часто могут быть истолкованы различно. Темные слухи в ту пору распускались, со злостной целью или по легкомыслию, о самых известных людях. Михаил Гоц однажды сообщил Плеханову, что в партию поступило донесение о провокации Азефа. Плеханов равнодушно ответил: «Обо мне, о Лаврове говорили то же самое». Азеф был несравненным героем, вождем огромного престижа, чуть только не святыней, для его товарищей по партии. Теперь, в его изображении (назову хотя бы интересный роман Гуля) выдвигают на первое место черты грубости, невежества, хамства, которые, казалось бы, должны были всем бросаться в глаза. Это ошибка перспективы. Азеф умел показывать товар лицом, — товар и революционно-технический, и духовный. Такие умные, опытные и чуткие люди, как Н. В. Чайковский, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов, изображали Азефа совершенно иначе. «Я любил его глубокой, нежной любовью», — говорил мне Зензинов. Савинков за три месяца до разоблачения сказал О. С. Минору: «Если бы против моего родного брата было столько улик, сколько их есть против Азефа, я застрелил бы его немедленно. Но в провокацию Ивана я не поверю никогда!»
V
Разоблачил Азефа, конечно, В. Л. Бурцев. Ему на суде чести никто из социалистов-революционеров не подавал руки, «как клеветнику». После 17-го заседания суда, то есть почти перед самым его концом (всего было 18 заседаний), Вера Фигнер, выходя, сказала Бурцеву: «Вы ужасный человек, вы оклеветали героя, вам остается только застрелиться!» Бурцев ответил: «Я и застрелюсь, если окажется, что Азеф не провокатор!..»
В мае 1906 г. к Бурцеву, издававшему тогда в Петербурге «Былое», тайно явился неизвестный молодой человек и отрекомендовался довольно неожиданно: «По своим убеждениям я — эсер, а служу в Департаменте полиции». Рекомендация, собственно, не так уж располагала в пользу молодого человека. Назвался он «Михайловским» — псевдоним тоже неожиданный.[9]
Другой наверное попросил бы «Михайловского» уйти. Редактор «Былого» поступил так, как ему подсказывала интуитивная мудрость. Он с открытой душой подошел к служащему департамента. Человек Бурцев принял человека Михайловского, — и хорошо сделал: социалист-революционер из Департамента полиции оказался правдивым и драгоценным осведомителем. Сообщил он немало интересных сведений. Из них, без всякого сомнения, наиболее интересным было то, что в партии социалистов-революционеров есть чрезвычайно важный провокатор, известный в департаменте под кличкой «Раскин». Больше о нем «Михайловский» почти ничего не слышал.