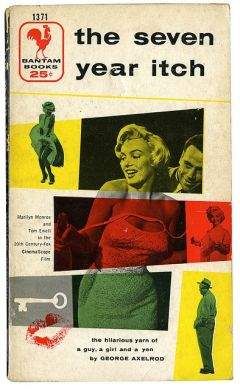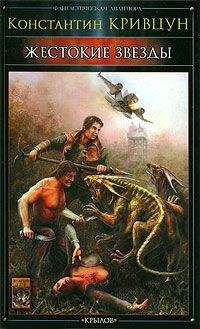Вехова Базильевна - Бумажные маки: Повесть о детстве
Женщина прошептала мне на ухо:
— Запоминай! «Отче наш, иже еси на небесех...», — повторяй, запоминай.
Слова были такие непонятные, я их никогда ни от кого не слышала... И я поверила, что они — волшебные. И действительно, они помогали мне перетерпеть ночи, когда все спят, а в темной палате бродят страшные сны и оживают боли. Слышны стоны и вздохи тех, кого грызут их боли-невидимки с железными когтями и раскаленными в аду зубищами...
Да, моя боль пугалась волшебных слов, которые я твердила про себя, стиснув зубы: «Отче наш...»
Мое «я» раздваивалось: одно мое я повторяло волшебные слова, а другое раздумывало и фантазировало. Почему «Отче», а не «Отец»? И кто Он? Почему Он — «наш»? Чей? Что такое «иже» и «еси»? Почему — «на небесех»? Сколько их? «Небеса» были в моем воображении похожи на многоярусную синего стекла этажерку. На самом верхнем стекле сидел, сложив по-турецки ноги под длинной одеждой, Отче, совсем как китаец с качающейся головой, я такого видела у кого-то на комоде. Отче покачивал и покачивал головой, прищурив узкие мудрые глаза. В руках Он держал «хлебнашнасущный» — большую булку, белую, с хрустящей корочкой, посыпанной поджаренными орешками. Мы — длинная-длиннющая очередь из детей и взрослых — подходили к этажерке, протягивали вверх сложенные ковшиком ладони. Отче, приветливо кивая, отламывал каждому большой кусок булки и клал в ладони. Но «хлебнашнасущный» не уменьшался! Булка оставалась целой!
Та, что научила меня тайным словам, говорила, что Отче дает «хлебнашнасущный» только добрым, а от злых отворачивается. «Но ведь если злой — голодный, и ему не дать хлеба, он еще больше разозлится и отнимет у добрых, — думала я. — А если дать, он съест и все равно будет злиться, что хлеб уже кончился, на завтра не хватило...», — пыталась я вникнуть в проблему отношения к злому человеку и, запутавшись, засыпала... Но боль снова и снова выталкивала меня из сна, и я опять цеплялась за палец Отче, ласково покачивающего головой в темноте. Странно, когда я думала о Нем, мне совсем не было страшно одной среди спящих и я не чувствовала себя одинокой.
Так мы лежали в своей тихой палате, читали Гоголя, болтали и лечились, надеясь, что когда-нибудь кончится наш больничный срок и мы выйдем на свободу... А за стенами шла голодная военная зима.
Нас старались подкармливать, ведь мы были туберкулезниками, а тогда считалось, что туберкулезникам необходимо усиленное питание. Я помню, как однажды я отказалась от какой-то каши, должно быть — всегдашней овсянки, у больных туберкулезом, да еще лежачих, аппетит плохой. Нянечка стояла возле моей кровати с тарелкой в руках и уговаривала меня поесть:
— Слышь, по радио тетка голодная воет: «Хочу-уу хле-еба-аа! Хочу ка-ааши-ии!» Слышишь? Так вот, ешь давай скорей, а то тетка придет и отнимет!
Но я рада была бы отдать воющей тетке мою кашу.
...Радио в палате никогда не выключалось. Вечно ждали каких-нибудь сообщений. И не все люди нуждаются в тишине. Многих больных тишина угнетала, а радио не давало им сосредоточиться на своих бедах. Я привыкла к радио и полюбила слушать классику, арии из опер и оперетт, народные песни. В тот раз, когда нянька пугала меня голодной теткой, по радио пела Русланова. От ее мощного голоса на меня наваливалась тоска, от которой, кажется, сейчас задохнешься или сердце остановится.
Тоска, тревога, безнадежность, усталость переполняли больных женщин в моей палате, и они благодарно любили Русланову, замолкали, лишь только она запоет, и слушали, пригорюнясь.
Мне нравилось то, что нравилось этим женщинам, я им безраздельно доверяла.
Заунывная русская песня связывалась в моем воображении с бесконечными снегами, сумерками над снежным полем, где нет ни огонька впереди, ни надежды согреться и поесть. По такому полю мы шли где-то в Сибири, когда наш поезд с эвакуированными растаял с печальным гудком в вечереющем морозном воздухе. А мы, несколько женщин и детей, остались с городскими чемоданами на нетоптанном голубом снегу.
Везде, куда ни посмотришь, только снега, бесконечные мягкие волны, белые, наливающиеся синевой. Всемогущие взрослые растерялись, всплакнули и пошли по узкой тропе через поля, изнемогая под тяжкой ношей из чемоданов и младенцев, закутанных в одеяла. Все мы оказались малюсенькими беспомощными живыми существами в огромном снежном пространстве, в тишине. Больше не стучали колеса, не гудела печка, не было ни разговоров, ни плача, ни стен, укрывающих от пронзительного ветра и безмерной пустоты вокруг...
Я шла по следам взрослых ног — глубоким, мне выше валенок. Снег осыпался со стенок следов, валенки быстро промокли. Трудно было вынимать ноги из бесформенных осыпающихся ям, они проваливались снова и снова. А сумерки сгущались слишком быстро, курились верхушки снежных волн — словно сдвигались вокруг невидимые дымные стены ночи... Хотелось упасть и уснуть, но было очень страшно остаться одной здесь, где шуршит сухим снегом ветер...
Больше нет моего родного дома с каменной лестницей на второй этаж, с высоким окном во двор. Окно глядело прямо на песочницу, когда я в ней копалась, строила домики из мокрого песка. Нет дома с кроваткой, застеленной зеленым одеялом. Одноглазого медведя, всегда ожидающего меня на подушке... Нет ящика с игрушками под диваном — сейчас я бы не испугалась темноты под диваном, я бы вытащила ящик сама, сидела бы на полу и играла совсем одна... Как я могла бояться тишины в моей комнате, тени в углу и чьих-то шагов за дверью?..
Теперь мне остался только скрип снега под тяжелыми ногами женщин, их громкое простуженное дыхание. Даже младенцы притихли, не пищат. Скрип снега удаляется, надо догонять, догонять и не падать, а то не будет сил идти...
Больные женщины любили петь. В пении была вся их душа, вся горечь, от этого пения хотелось плакать громко, в полный голос, хотелось вместе с ними выводить тонкий, длинный, куда-то уносящий мотив...
Вот день и кончается. Окна наливаются чернильной синевой, а предметы в палате и лица — сереют, все тускнеет, становится печальным. Кто-то запевает низким голосом, в нем сразу звучат слезы, песня сейчас захлебнется, но тут ее подхватывают другие голоса, и она взлетает, воспрянув, и долго и нежно кружит под темно-голубым от сумерек потолком.
Тоскует о молодой жене ямщик, умирающий среди снегов в степи, тонкая рябина не может прижаться к одинокому дубу, бродяга с Сахалина проклинает свою судьбу...
Опускались черные шторы затемнения: хоть мы и были далеко от фронта, полагалось беречься от невероятных здесь вражеских самолетов. Загоралась голая лампочка на сером проводе в центре потолка, и песни кончались, потому что на своей кровати садилась и раскладывала на одеяле потрепанные карты с серыми краями «гадалка». Сразу выстраивалась очередь. Вокруг вздыхали зрители. У каждой женщины было горе и каждой хотелось узнать — долго ли терпеть и чего еще ожидать на свою голову... Но главное, что всех волновало, — это судьба близких на фронте. Гадали чаще всего на крестового короля или на «вальта». Очень боялись близости к королю или «вальту» пиковой дамы. Дама пик означала смерть. Если зловещая дама преследовала короля, та, кому гадали, расстраивалась до слез. Ее утешали, что карты «врут». Или раскладывали до трех раз. Все равно тревога не оставляла невезучую женщину, и с каким нетерпением она ждала завтрашнего гадания! На засаленные покоробленные кусочки картона смотрели с такой мольбой, с такой надеждой, что они добрели и сулили дальнюю дорогу или важную встречу в казенном доме, что означало: «часть перебрасывают», «к начальству вызвали, может, награду получил?»