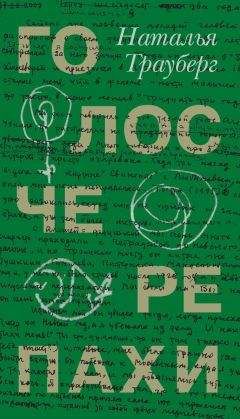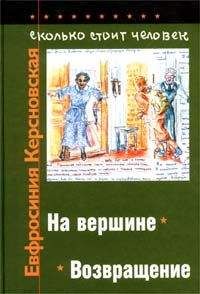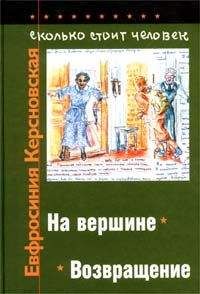Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь первая: В Бессарабии
Дома я мамы не застала: она ушла в город за новостями. Я пошла туда же. За сорокским мостом, метрах в 50-ти выше него, под откосом лежала опрокинутая машина. Рядом — труп солдата, укрытый плащ-палаткой. Лицо покрыто каской. На обочине сидел унылого вида солдат с винтовкой.
— Как это случилось? — спросила я.
— Горы-то какие! Разве выдержат тормоза?
Я удивилась: какие же это горы? Маленький уклон! Но ведь в мире все относительно!
«А где здесь у вас ба-а-а-рин?»
Встреча с нашими новыми хозяевами состоялась на следующий день. Воскресенье. В поле работ нет. Я отпустила в город не то на митинг, не то на парад своих рабочих — мальчишку Тодора и бездомного старика пьяницу дедушку Тому, приблудившегося как-то в ненастную зимнюю пору к нам, да так и оставшегося при хозяйстве. А сама я, задав корм всем находящимся дома животным, занялась огрынжами[7].
Работа грязная, неприятная: пыль, соломенная труха и навоз сыпались мне на голову и, смешиваясь с потом, текли по лицу ручьями.
Вдруг со стороны леса появилась группа всадников, военных. Один из них, подъехав ко мне, обратился с нескрываемой насмешкой:
— А скажи-ка, где здесь у вас ба-а-а-рин?
Я внимательно осмотрела его и его весьма неказистую лошаденку, воткнула вилы и, смахнув тыльной стороной руки пот с лица, не спеша ответила:
— Барин — это я!
У них был такой оторопелый вид, и поэтому я, чтобы вывести их из неловкого положения, продолжала:
— А что вам от меня нужно?
— У вас тут стог сена. Мы его возьмем для конной артиллерии.
Трудно сказать, что руководило мной. Было ли это желанием порисоваться, удивить? Или я решила, что лучше самой отдать, чем ждать, пока отберут, или подсознательно чувствовала, что таким путем я хоть что-то сохраню? Не знаю… Помню только, что я душой тянулась навстречу этим людям: ведь это были свои, русские. Не осточертевшие румыны. И я сказала:
— Это сено лесное, неважное; есть у меня в трех верстах отсюда хорошее полевое сено. Чистый пырей. И его много!
Они переглянулись.
— Это очень похвально, что вы идете нам навстречу. Кто же нам укажет, где это сено?
— Я поеду с вами. Мама! — обратилась я к маме, вышедшей на кухонное крыльцо. — Мама, я съезжу с конноартиллеристами, выдам им сено!
Я пошла, чтобы умыться, а четверо конников подъехали к дому:
— Мамаша, дайте напиться!
Мама вышла с кувшином красного вина и кружкой. Она ласково и немного смущенно их угощала, наливая чуть дрожащей рукой холодное ароматное вино.
Когда я, наскоро приведя себя в порядок, выходила из дому, в коридорчике между столовой и кухней мама меня остановила и, поцеловав, сказала:
— Ты обратила внимание, как он сказал «мамаша»? Мне он стал сразу близок, как сын, ведь и мой сын где-то там, на чужой стороне…[8] Даст ли ему там кто-нибудь напиться? «Мамаша!» Они, право же, очень славные ребята, не так ли?
Что я могла ей сказать? Я сама хотела верить, что это так…
С такими ли героями Суворов перешел Альпы?
Я удивлена. И немного разочарована. (Меня ждали еще долгие годы, полные удивления и разочарования, но это позже.)
Едем размашистой рысью. Я — без седла, на молодой вороной кобыле Свастике (названной так отнюдь не в честь Гитлера, а просто у нее на лбу белое пятнышко, напоминающее свастику). До могилы Марина все шло хорошо. От могилы — крутой спуск. Я, не меняя аллюра, устремляюсь вниз, перескакивая водомоины. На половине спуска оглядываюсь. Моих спутников нет… Удивленная, останавливаюсь. Ветеринар, политрук и старшина — далеко позади. Они спешились и ведут своих коней в поводу.
Вот-те на!
Вспоминаю машину, у которой не выдержали тормоза на совсем пустяковом (с моей точки зрения) уклоне. Позже, уже осенью, видела, как растерянный солдат разогнался вниз от синагоги по тропинке, что вела из Верхнего города в Старый город, в Сороках. Он не мог остановиться и бежал, испуганно повторяя:
— Вот она, страна Бессарабия!
Оказывается, все это были жители Полтавщины. У них местность равнинная, и наши холмы кажутся им горами!
Диспут под стогом сена
Сено подсчитали, обмерили, реквизировали.
— Сейчас выдам вам расписку.
— Зачем? Сено оплате не подлежит. К чему расписка?
— Чтобы с вас это же сено вторично не потребовали.
— Неужели и такое может случиться?
Мотаю на ус…
Сидим под стогом сена. Жарко. Легкий ветерок. Как пахнет нагретое сено!
Завязалась оживленная беседа. Вернее — словесная дуэль. Политрук и я. Ветеринар улегся под стогом и уснул. Странно! Он спит, но почему-то время от времени приоткрывает глаза и делает мне какие-то знаки. Не то подмигивает, не то предупреждает. Не пойму! Как далека была я от мысли, что можно поплатиться, высказывая свои взгляды. Это в XX веке! Никогда бы этому не поверила!
А чтобы мог пострадать не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает и не бежит тотчас, чтобы донести… Нет! Такого, наверное, и в самые дикие времена инквизиции не было!
Сколько горьких уроков получила я с тех пор, сколько знаний приобрела… Пожалуй, «приобрела» — не то слово. «Выстрадала» — вот как надо сказать. Но тогда, в тот ясный летний день, когда все мои «университеты» были еще впереди, — было простительно всего этого не знать…
Политрук говорил о непогрешимости партии. Я его просила объяснить, отчего в непогрешимой партии могли оказаться такие грешники, как Тухачевский, Уборевич, Якир — «имя же им легион», — и в чем критерий непогрешимости? Политрук воспевал коллективизацию, притом добровольную; я спрашивала, как перевести на русский язык понятие «добровольная» и чем объяснить голод 1933 года, о размере которого в то время я имела очень неверное представление, так как могла допустить возможность голода лишь на необитаемом, бесплодном острове, при кораблекрушении, а не в самой хлебородной в мире стране.
Я спрашивала, какой общественный или государственный орган контролирует поступки Сталина и каким путем народ может ограничить его власть и не дать ей превратиться в самодержавие?
Домой я возвращалась шагом. Мне нужно было разобраться в нашей беседе. Политрук явно разочаровал меня: ни на один из моих вопросов он не дал исчерпывающего ответа!
Отчего, однако, ветеринар спал? И так странно?
Кукона и дудука