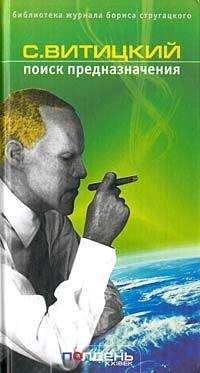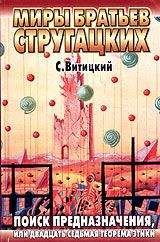Дмитрий Горчев - Поиск Предназначения (сборник)
А ещё некоторые говорят, что будто бы детство – счастливая пора. Память у них хуёвая потому что.
А потом я однажды проснулся днём: а зуб не болит! То есть вообще нигде не болит. Умер наверное.
Я шатаясь выполз в огуречник, выдернул морковку, вытер об штаны и съел. Потом съел очень твёрдое и кислое яблоко – нет, всё равно ничего не болит.
И солнце эдак светит, как светило потом всего ещё в один счастливый день, когда я уволился с должности школьного учителя. И какая, скажите, смерть, когда такое солнце?
Я лёг на траву под яблоню и впервые в жизни увидел богомола. Был он смешной, зелёный и было совершенно непонятно, почему это существо не разваливается и на чём вообще эти спички держатся.
Богомол посмотрел на меня мрачно, тяжело вздохнул и убрёл куда-то: видимо размножаться.
Единственно возможный метод колки дров
Однажды, когда мне было лет двенадцать наверное, я занялся колкой дров. Никто меня к этому занятию не понуждал, а с другой стороны, никто и не переживал от того, что я отрублю себе ножку, мне просто было это интересно. У меня вообще было очень счастливое детство – я сам принимал решения про то, что мне нужно или не нужно.
Дрова я колол не потешным каким-нибудь топориком, а настоящим колуном – с меня примерно ростом и с меня же примерно весом, я всегда был довольно тощий.
Главная задача при колке дров состояла в том, чтобы вообще как-то этот колун поднять и потом задать ему правильное направление, а остальное происходило само собой.
Я довольно быстро научился легко раскалывать сосновые и осиновые чурбаки, тем более что они и так были уже все треснутые. А вот с берёзой никак не получалось, берёза, она довольно-таки твёрдое дерево.
Брат мой двоюродный Серёга, царствие ему небесное, однажды, вышедши на задний двор покурить папиросу, некоторое время наблюдал, как у меня раз за разом колун отскакивает от особо какого-то омерзительного берёзового чурбана, и сжалившись объяснил очень простой метод: «Ты неправильно всё делаешь, – сказал он, – перед тем, как ударить, ты должен увидеть чурбан уже расколотым». Ну и да, я попробовал, и всё, конечно же, получилось.
Нынешнее поколение, навсегда испорченное эзотериками и экуменистами, безусловно обнаружило бы в этом какой-нибудь идиотский дзен, но на самом деле нихуя никакого дзена тут нет. Это просто единственно возможный метод колки дров и ничего более.
* * *Для того чтобы полагать себя хоть немного путешественником, нужно любить дорогу. То есть не считать её досадной помехой на пути к ожидающему в конце её счастию, но помнить всегда, что именно дорога и есть самая главная часть любого путешествия, простите уж за такую сентенцию.
Сборы в последний момент (и непременно, в тысячный уже раз, забудешь взять с собой что-то очень важное, о чём горько потом пожалеешь в пути: пустяк какой-нибудь – ножик или, может быть, соль в спичечном коробке), посидеть на дорожку (ну, с Богом!), прибежать как всегда к самому уже отправлению, рыться по карманам в поисках билета, паспорта, сигарет, зажигалки (очень важно почему-то успеть, обязательно успеть покурить ещё на перроне), попрощаться торопливо – «ну пока» – «пока, пиши там» – «конечно-конечно».
И вот уже тронулся поезд медленно, словно и сам не уверен – а надо ли? а чего я там забыл? – но уже бесповоротно. Разве что в честь опаздывающего какого-нибудь пассажира, роняющего на бегу чемоданы и размахивающего голубыми тысячными бумажками, дёрнется вдруг поезд мучительно, зашипит страшно и злобно, остановится на краткую секунду, но тут же вновь упрямо рванёт оглобли – ибо теперь уже всё решено окончательно и навсегда: едем! И проводницы в парадном обмундировании застыли в дверных проёмах с жёлтыми флажками, будто неживые, словно солдаты у мавзолея (не то что на промежуточной какой-нибудь несущественной станции, где кряхтя спускают они со ступенек толстые свои жопы на толстых же ногах, завёрнутых в шерстяные носки, обтерев кое-как поручни закопчённой тряпицей). И звучит торжественная музыка, ибо это и есть тот самый момент, ради которого и были придуманы железные дороги.
Прочь, прочь отсюда!
В городе Омск
Вечность и Бесконечность
Смысл, а точнее бессмысленность и безнадежность слов Вечность и Бесконечность я понял ещё после первого курса моего первого института в городе Омск.
Нас тогда, шестерых троечников и распиздяев отправили летом в так называемый студенческий отряд на кирпичный завод в посёлке нефтяников.
Работа на этом заводе состояла в обжиге кирпичей. Обжиг этот происходил в кольцевой печи, которая, если по-математически, имела форму тора. Трое из нас укладывали ещё сырые кирпичи ёлочкой, а остальные трое разбирали кирпичи уже обожжённые. И так мы ходили друг за другом: мы укладываем, они разбирают. Полный оборот – примерно неделя.
Температура внутри – градусов семьдесят. Сейчас бы я сдох через полчаса, а тогда ничего, организм был крепкий.
График работы был самый антигуманный: два дня в первую смену, два – во вторую, два – в третью, потом два выходных. Восьмидневный этот цикл специально и издевательски не имел ничего общего с графиком Божьим, и уже на второй неделе я, проснувшись, например, в восемь часов, долго и мучительно размышлял: а это восемь часов вечера (тогда надо идти на работу) или же восемь часов утра (ура! проспал)?
Да, и про безнадежность. Вот ходишь ты по этому кругу, ходишь, а он никогда не кончается. Ну, двери только разные, через которые закатывают тележки с сырыми кирпичами, а больше ничего не меняется. И результата от всего этого никакого – все кирпичи после этого исчезают куда-то бесследно. И можно так ходить всю жизнь, а кирпичей ни убудет, ни прибудет. Их сколько было, столько и есть.
Задумавшись над этим, я научился пить водку из горла без закуски, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, курить папиросы беломор, ругаться матом и сморкаться на пол.
И хорошо ещё, что так легко отделался.
Тьма Внешняя
Помню, как нестерпимо было мне, когда я учился в городе Омске и снимал комнату у бабы Шуры. Я, значит, выпив прохладного чаю (печка ещё не разгорелась) и надев твёрдый как скафандр тулуп, собирался с духом перед выходом во Тьму Внешнюю, а мерзкая эта старуха, установивши на прикроватную тумбочку кружку с кофием и тарелку с плюшками, покойно читала сочинения г-на де Мопассана. Я вообще не знаю, чего там у этого Мопассана читать – говно, а не писатель. И Золя – тоже говно, и Гюго, за малым исключением, и вообще вся французская литература – говно.
Рассуждая таким образом, я доходил до трамвайной остановки. Трамвай ходил как электричка: по расписанию, и если опоздаешь, то следующего (их всего на линии было два) ждать минут сорок. Потом приезжал обледенелый снаружи и изнутри трамвай, и мы, страшно скрипя, отправлялись с ним в тягостное путешествие по бесконечным нумерованным улицам: тринадцатая линия, десятая, восьмая, улица красных зорь, пятая, третья, первая, карла-маркса, потом опять третья, седьмая – и дальше, дальше, вплоть до двадцать девятой. Куда? Зачем?