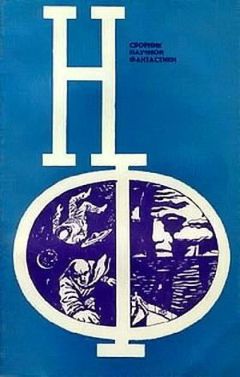Михаил Демин - Таежный бродяга
— Отчаливаешь, значит?
— Как видишь, — пробормотал я, натягивая сапог.
— На всю ночь?
— Да.
— Ну, как хошь. Ты город-то хоть знаешь?
— Это неважно. Разберусь. — Я шагнул к вешалке, сдернул с гвоздя полушубок. — Но учти, я завтра загляну — за расчетом. Готовь гроши!
— К завтраму я навряд обернусь. — Он насупился, скребя ногтями волосатую грудь. — Ты бы подождал денька три, а?
— Нет, батя, — усмехнулся я, — не могу. Ждать да догонять — сам знаешь — последнее дело!
Я вышел на улицу — и окунулся в мерцающую светлую темень. Голубое сияние снегов окружило меня, ледяные созвездья расточились над головою. Колючими мурашками пополз за воротник предзоревой морозец. И сразу прозябнув и протрезвев, я заколебался, пожалел о содеянном. На мгновение мелькнула юркая мысль: а не вернуться ли назад, в тепло? Куда мне сейчас идти и что мне делать — одному, в чужом этом, сонном городе? Но тут же я сказал себе: нет, нельзя! Назад уже нет возврата! Я сам выбрал себе такую участь и надо теперь идти до конца.
И запахнув полушубок, упрятав лицо в воротник, я двинулся туда, где маячили вдалеке радужные станционные огоньки.
Было тихо в ночи, лишь звонко похрустывал под подошвами снег, да кое — где, за оградами, бесились — заслышав мои шаги — свирепые цепные псы. "Палки вырежем длинны, тонки, — выплыла вдруг в памяти песня, — от сибирских злых собак".
* * *Ах, какой томительной и долгой была эта первая моя ночь на свободе! Она запомнилась мне навек. Я промерз в эту ночь до костей, я онемел от стужи и тоски. Отрешась от подземного, потайного мира (и не освоившись еще с новой средой), я растерялся, почувствовал себя, как в пустыне. Угрюмо и немотно вздымались вокруг очертания зданий, тянулись улицы, до краев налитые тьмой. И в этой тьме брел я, маленький, до ужаса одинокий… Никто не ждал меня в новом этом мире, никому я здесь не был нужен. Я мог бы подохнуть под любым забором, в снегу, и только псы — цепные косматые псы — отпели бы мою кончину. Тягучий их вой и хриплая многоголосица преследовали меня, провожая от двора к двору, от перекрестка к перекрестку.
Единственным ориентиром в этой пустыне служили мне станционные фонари. Они притягивали меня так же, как огонь в ночи притягивает мошкару. И точно так же, как мошкара, — когда она мечется, обжегшись, — я затрепетал и забеспокоился, приблизившись к свету, ступив в его полосу.
У дверей вокзала неспешно, вперевалочку, расхаживал милиционер. А попадаться ему на глаза мне сейчас нельзя было. Нельзя ни в каком случае!
Дело в том, что свобода, которую я добыл с таким трудом, — была свободой не полной, весьма относительной… Конотопский железнодорожный трибунал в свое время приговорил меня к шести годам лагерей с последующей трехлетней ссылкой. Выражаясь языком арестантов, я получил тогда "шесть в зубы и три — по рогам". Лагерный срок я кончил, разменял, причем разменял на год раньше, чем было положено; за время, проведенное мною на 503 стройке (на знаменитой Енисейской "мертвой дороге"), незаметно набежали зачеты. В условиях полярных лагерей они были неплохими; рабочий день здесь засчитывался — за три… В общем-то, на этой стройке — так же, впрочем, как и всюду — я не вкалывал по — настоящему, был занят иными делами (участвовал в междоусобице, жил, как на войне), но все же я числился в рабочей бригаде, и если не выходил на работу, оставался в зоне — то всегда под предлогом болезни… Лагерный врач, Константин Левицкий, неизменно покрывал меня, выгораживал всюду. Он как раз и был одним из тех «политических», с кем я сошелся, сблизился постепенно, и чье влияние привело в конце концов к тому, что я решился начать иную, новую жизнь. Левицкому я вообще был многим обязан; он не только помогал мне, как врач и администратор, но также интересовался моим творчеством, подолгу и охотно беседовал со мною о литературе и незадолго до моего освобождения ухитрился — с помощью каких-то вольных своих друзей — переправить тетрадку с моими стихами в Красноярское отделение Союза Писателей. Теперь прямой моей целью было попасть в этот союз и увидеться с тамошними писателями…
Цель, как видите, была ясная. Однако на пути к ней имелась грозная преграда — милиция! Решительно порвав с преступным миром, я по- прежнему боялся властей, избегал их. Ведь после лагеря я должен был сразу же отправиться в ссылку. По приговору суда я был лишен гражданских прав и мог теперь жить только там, где мне укажут, а вовсе не там, где хочу… Оформляя документы на освобождение, начальство избрало для меня Хакассию — таежную область на юге Красноярского края. Главный город Хакассии, Абакан, расположен был в пятистах километрах от Красноярска. Вот там-то мне и полагалось находиться! Нет, встречаться сейчас с постовым — да к тому же еще ночью, на глухой окраине, — было делом рискованным…
Итак, увидев постового у вокзальных дверей, я дрогнул, съежился и отпрянул… Слава Богу, он меня не заметил; он как раз в этот момент прикуривал, поднеся к лицу темные, сложенные ковшиком ладони.
Потом я какое-то время таился в привокзальном скверике, мерз и маялся, дожидаясь момента, когда постовой отойдет. Случилось это не скоро. Ночь уже начала иссякать, восток подернулся белесой пепельной дымкой, и кое-где, в пристанционных зданиях, засветились окна, роняя на истоптанный снег неровные желтые квадраты.
"ХВАТАЙ ФОРТУНУ ЗА ВЫМЯ"
Проникнув в помещение вокзала, я несколько минут стоял, прижавшись грудью к пыльной, пышущей жаром, батарее центрального отопления.
Я широко распахнул полушубок, стараясь захватить, вобрать побольше тепла — раскинул руки, обнимая батарею — и замер так, закаменел, с наслаждением чувствуя, как идет по телу сладостная истома. Затем я осмотрелся, отыскивая место, где можно было бы устроиться поудобнее.
Зал ожидания был переполнен, набит битком. Вокзал жил своей обычной — бездомной, суетной жизнью. Кто-то спал, прикорнув средь мешков и корзин, кто-то закусывал, расстелив на лавке засаленную тряпицу. В углу четверо солдат (судя по всему — отпускники) — молодые, вихрастые, в распоясанных гимнастерках, в шинелях, небрежно брошенных на плечи — шумно резались в карты. Играли в подкидного, но не на деньги, а — в «носы». Проигравшему били картами по носу; он сидел, наморщась, запрокинув лицо, а остальные, сгрудясь вокруг, считали удары и сердито кричали, чтоб не ворочался. Рядом с солдатами помещалась баба в мохнатом платке; она деловито грызла подсолнухи, засевала пол трескучей шелухой. Поодаль еще одна — помоложе — кормила ребенка, выпростав грудь, подставляя ему коричневый сосок, а тот отворачивался и лопотал что-то, и хныкал пронзительно, и глядя на все это, я понял, что здесь мне ни отдохнуть, ни выспаться не удастся. И вздохнув, отправился в буфет.