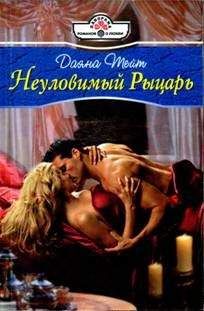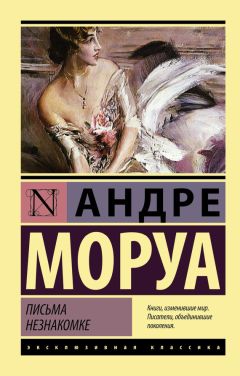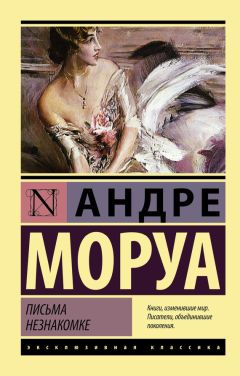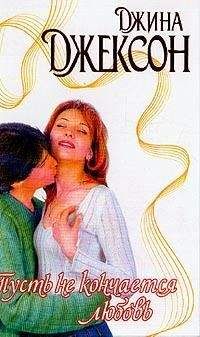Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста
"Учеников приучают относиться к тем, кто посещает кюре, как к людям, с которыми не надо знаться, пытаясь как с этой стороны, так и с другой, сделать две Франции, и я, помнящий этот городишко, весь склоненный к скудной земле, матери скупости, где единственный порыв к небу, часто покрытому облаками, но часто также божественно-голубому и ежевечерне преображенному босским закатом, где единственный порыв к небу - это все еще устремленная ввысь прелестная церковная колокольня, я, помнящий кюре, который обучил меня латыни и названиям цветов в своем саду, особенно я, знающий образ мыслей отцова зятя, местного приспешника антиклерикалов, который со времени декретов перестал здороваться со священником и читает "Непримиримого",[5] а после дела Дрейфуса добавил сюда "Свободное слово" я полагаю, что нехорошо, когда на распределение наград больше не приглашают старого кюре, представляющего в городке нечто более сложное для определения, нежели Общественный Строй, символизируемый фармацевтом, отставным инженером табачно-спичечной промышленности и оптиком, но все же достаточно уважаемого - не за разумность ли прелестной, одухотворенной колокольни, устремленной в закат и тающей в розовых облаках с такой любовью, и в которой, однако, первый же взгляд новоприбывшего в городок видит больше красоты, больше благородства, больше бескорыстия, больше разумности и, если угодно, больше любви, чем во всех прочих постройках, как бы ни ратовали за них самые недавние законы..."
В 1904 году, в момент отделения Церкви от государства, он написал много прекрасных статей в защиту "убиенных церквей", и мать одобрила его.
Так что, в собственной семье ему не пришлось быть свидетелем каких-либо религиозных конфликтов. Скорее уж он наблюдал там такие примеры совершенного согласия и доброты, что был обезоружен ими на всю жизнь. Быть может, ребенку опасно жить в атмосфере слишком мягких чувств, сердце от этого не закаляется. Марсель Пруст страдал от невозможности вновь обрести где-либо в ином месте столь же теплое и нежное прибежище любви, которое давали ему мать и бабушка. Будучи воспитан в среде, где улавливались малейшие оттенки чувств, он приобрел деликатность, доброжелательность, утонченную чувствительность, но также и своеобразную способность страдать, едва лишь к нему самому переставали относиться с той же предупредительной нежностью, а также боязнь задеть, причинить боль, что в жизненных битвах станет его слабостью.
Его бабушка и мать были женщинами образованными, постоянно читавшими классику. Их речь украшали и обогащали цитаты из Расина, из госпожи де Севинье. Существует тетрадь, куда госпожа Адриен Пруст по ходу чтения заносила изящным наклонным почерком понравившиеся ей фразы, которые втайне коллекционировала. "Мама прячет свои цитаты из эгоизма в отношении близких", - скажет Пруст, а в письме к Монтескью напишет: "Вы не знаете Маму. Ее крайняя скромность почти от всех скрывает ее крайнее превосходство... Перед людьми, которыми она восхищается - а вами она восхищается бесконечно - эта чрезмерная скромность оборачивается полным сокрытием достоинств, несравненность которых известна почти лишь мне одному. Что же касается беспрерывного самопожертвования, которым стала ее жизнь, то это самая трогательная вещь на свете..."
Избранные госпожой Пруст цитаты изобличают вкус к тонкой формулировке и некоторую меланхоличную покорность судьбе. Во многих говорится о боли расставания и разлуки. Ее письма свидетельствуют об изяществе собственного слога. В ней угадываются в потенции многие черты Марселя и почти все черты матери Рассказчика. Люсьен Доде отметил сходство между матерью и сыном: "То же продолговатое и полное лицо, тот же беззвучный смех, если она находила что-либо забавным, то же внимание к любому обращенному к ней слову, внимание, которое у Марселя из-за его отсутствующего вида можно было принять за рассеянность, и чтЬ, напротив, было сосредоточенностью".
"Что ты хочешь к Новому году? - спрашивала мать у Марселя.
- Подари мне свою любовь, - отвечал он.
- Но, дурачок, она ведь и так уже у тебя есть. Я спрашиваю, какую вещь ты хочешь..."
Ах! До чего он любил слышать, как она его зовет: "Золотинка моя, глупыш мой", и в письмах: "Мой бедный волчонок".
Что касается бабушки с материнской стороны, ставшей привычной спутницей своего внука и бравшей на себя заботу отвозить его к морю, то она очень хорошо знакома нам из романа - обаятельная и пылкая, с наслаждением подставляющая лицо дождю, обходя сад широким шагом, любившая природу, колокольню Святого Илария и гениальные произведения, потому что их объединяло то же отсутствие пошлости, претенциозности и мелочности, которое она ставила превыше всего. В Илье над ней немного посмеивались, хотя всегда по-доброму, и находили ее малость "чокнутой", потому что она была так непохожа на других, но какое ей было до этого дело? "Она была смиренна сердцем и так кротка, что ее нежность к другим и то малое значение, которое она придавала собственной персоне и собственным страданиям, сочетались в ее взгляде с улыбкой, где ирония предназначалась лишь ей самой, а ее близким - словно поцелуй ее глаз, которые не могли видеть тех, кого она лелеяла, не лаская пылко взглядом..."
Таким образом, среда, в которой рос ребенок, была по существу "культурной средой". Это была не просто мелкая буржуазия - по своим ильерским корням, и не просто крупная - благодаря преуспеянию его родителей, что ничего не значит и сочетается в иных семьях с сомнительной вульгарностью, но "нечто вроде естественной аристократии, без титулов... где общественные притязания оправданы всем обиходом наилучших традиций". Доктор Адриен Пруст привносил серьезность, научный дух, который унаследует и Марсель; мать добавляла любовь к литературе, деликатный юмор. Именно она первой сформировала ум и вкус своего сына.
"Она была уверена, что имеет четкое представление о совершенстве и может отличить, когда другие более-менее к нему приближаются - это касалось того, как готовить некоторые блюда, играть сонаты Бетховена и радушно принимать гостей. Впрочем, для этих трех вещей оно заключалось в одном и том же: в своего рода простоте средств, строгости и обаянии. Ей претило, когда пряности добавляли в кушанья, которые этого не требовали безусловно, когда играли аффектированно и злоупотребляли педалью, когда, "принимая", выходили за рамки совершенной естественности и слишком много говорили о себе. Она утверждала, что по первому же кусочку, по первым нотам, по простому приглашению понимает, имеет ли дело с умелой кухаркой, настоящим музыкантом, хорошо воспитанной женщиной. "Будь у нее даже больше пальцев, чем у меня, ей все равно не хватает вкуса. Играть с такой напыщенностью столь простое анданте..." - "Может, она и блестящая женщина, и исполнена всяческих достоинств, но говорить о себе при таких обстоятельствах - это недостаток такта". - "Может, она и опытная кухарка, но готовить бифштекс с картошкой не умеет".