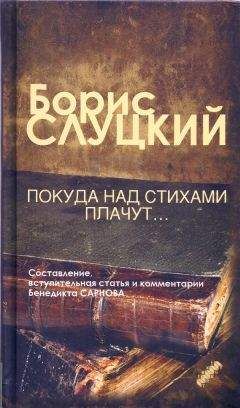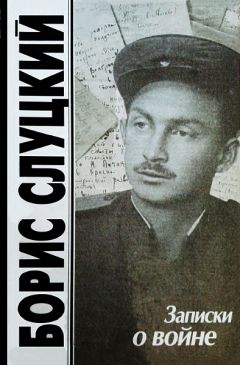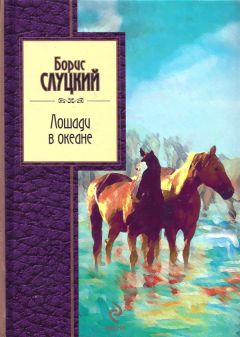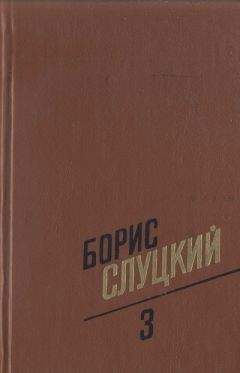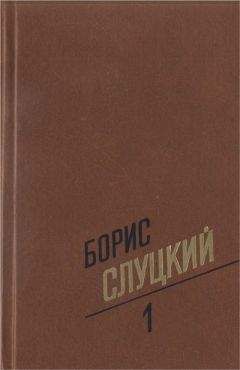Борис Слуцкий - О других и о себе
Воротимся, однако, к Довлатову. Общей у Слуцкого с ним была не только стилистика. Общей была их социальная ситуация. Послевоенные сороковые годы, когда Слуцкий сформировался как поэт и написал если не лучшие, то, по крайней мере, характернейшие свои произведения, были для него в житейском, социальном плане тем же, чем для Довлатова были семидесятые годы — годы, когда Довлатов сформировался как писатель и написал если не лучшие, то характернейшие свои произведения.
Кем оказался Слуцкий после войны в сороковые годы?
Тем же, кем был Довлатов в семидесятые. Непечатающимся писателем. Люмпен — интеллигентом, если угодно.
О том времени Слуцкий вспоминал так: «Где я только не состоял! И как долго не состоял нигде. В 1950 году познакомился я с Наташей, и она, придя домой, сказала своей интеллигентной матушке, что встретила интересного человека. «А кто он такой?» — «Никто». — «А где он работает?» — «Нигде». — «А где он живет?» — «Нигде». И так было десять лет — с демобилизации до 1956 года, когда получил первую в жизни комнату 37 лет от роду и впервые пошел покупать мебель — шесть стульев. Никто. Нигде. Нигде».
Конечно, период вот этого «никтойства» — «нигдейства» — «люмпен — интеллигентства» был у Слуцкого значительно короче, чем у Довлатова, и кончился победным входом в советскую литературу, но сам этот период был для Слуцкого драматичнее и безысходнее. В мемуарном очерке «Истории моих стихотворений» он пишет о времени создания стихотворения «Давайте после драки помашем кулаками…»: «Предполагалось, что будущего у меня и у людей моего круга не будет никакого».
Именно это время Слуцкий вспоминает в самых своих «довлатовских» прозаических произведениях: в «Георгии Рублеве», «Истории моих квартирных хозяек», «После войны». Вспоминает в семидесятые годы, когда вновь начинает понимать, что опыт жизни не укладывается в стихи. Тогда же он пишет одно из самых странных и безысходных своих стихотворений — «Случай».
Этот случай спланирован в крупных штабах
и продуман — в последствиях и масштабах,
и поэтому дело твое — табак.
Уходи, пока цел.
Этот случай случится, что б ни случилось,
и поэтому не полагайся на милость
добродушной доселе судьбы. Уходи.
Я сказал тебе, что тебя ждет впереди.
Уходи, пока цел.
Забирай все манатки.
Измени свою цель.
Постригайся в монахи.
Сгинь, рассейся, беги, пропади!
Уходи!
Исключений из правила этого нету.
Закатись, как в невидную щелку — монета,
зарасти, как тропа, затеряйся в толпе,
вот и всё, что советовать можно тебе.
Особенно хорошо и мрачно смотрится в этом стихотворении измененная цитата из Пушкина: «ко мне не зарастет народная тропа» — «зарасти, как тропа»… В семидесятые годы Слуцкий вспоминает ситуацию сороковых, когда ему, фронтовику, еврею, писавшему русские стихи, становилось понятно: случай спланирован в крупных штабах. Будущего не будет.
Об этом времени и о Слуцком в нем опять‑таки лучше всего написал Самойлов: «Два молодых поэта, Слуцкий и я, оба — поэты, принимающие действительность, — мы каждый день могли ожидать ареста, а дальше — известно что — методы, «бессрочные» лагеря, погибель. За что, собственно? Только за то, что не умели пристроиться к действительности, печатать стихи, где‑то числиться и служить. За то, что собирались кучками больше трех, разговаривали, общались, встречались.
Каково было Слуцкому, майору запаса, пенсионеру по военной инвалидности, кавалеру болгарского ордена «За храбрость», члену партии и прочее, расставаться с мечтой о победном въезде в литературу и отматываться от ласковых стукачей, пытавшихся поймать его на слове? Каково было ему ночью прислушиваться к выстрелам входной двери в парадном и к чужим шагам по лестнице?»
Иными словами, каково было тому, кто ощущал себя субъектом истории, попросту говоря, ее творцом, ощутить себя ее объектом? Из победителя превратиться едва ли не в подпольщика? Сам Борис Слуцкий пишет об этом так: «Стихотворение «Давайте после драки…» было написано осенью 1952–го в глухом углу времени — моего личного и исторического. До первого сообщения о врачах — убийцах оставалось месяц — два, но дело явно шло — не обязательно к этому, а к чему‑то решительно изменяющему судьбу. Такое же ощущение — близкой перемены судьбы — было и весной 1941 года, но тогда было веселее. В войне, которая казалась неминуемой тогда, можно было участвовать, можно было действовать самому. На этот раз надвигалось нечто такое, что твоего участия не требовало. Делать же должны были со мной и надо мной».
Самое удивительное, что этот «глухой угол времени», когда все говорило о том, что пора «зарасти, как тропа, затеряться в толпе», и был временем начавшегося для Слуцкого стихописания: «Эти годы, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой. Точнее, двумя комками: 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом.
Очень разные положения… Стихи меня… столкнули с дивана, вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы…»
Это были стихи особого рода. Это были стихи отчаяния, заставляющие себя быть стихами надежды: «Я строю на песке, а тот песок / Еще недавно мне скалой казался. / Он был скалой, для всех скалой остался, / А для меня распался и потёк…» Вот что это были за стихи. Они‑то и «впечатляли» — сначала узкий круг московской интеллигенции, а потом, когда наступило время «оттепели», куда более широкие круги населения.
Свою главную поэтическую, художественную задачу Слуцкий четко выразил в стихотворении, посвященном смерти Сталина: «Социализм был выстроен. Поселим в нем людей». «Очеловечиванием» доставшегося наследства Слуцкий и занимался. Когда заниматься становилось невмочь, он оставлял ямбы, хореи и дольники и переходил к прозе. Потому‑то проза Слуцкого так фрагментарна, обрывочна, неоконченна. Чаще всего это — программы будущих стихов, их, если можно так выразиться, либретто. Но это и замечательные свидетельства времени — свидетельства сложного и талантливого, не всегда понятного, но всегда интересного нам человека.
Никита Елисее
Записки о войне
Основы
Накануне Европы
То было время, когда тысячи и тысячи людей, волею случая приставленных к сложным и отдаленным от врага формам борьбы, испытали внезапное желание: лечь с пулеметом за кустом, какой поплоше и помокрее, дождаться, пока станет видно в прорезь прицела — простым глазом и близоруким глазом. И бить, бить, бить в морось, придвигающуюся топоча.