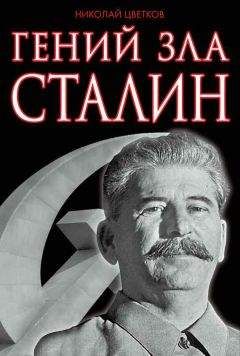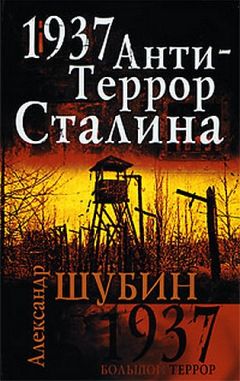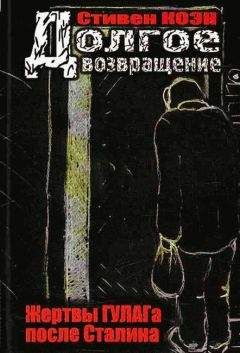Альберт Шпеер - Шпандау: Тайный дневник
Раньше мое знакомство с такими тюремными камерами ограничивалось американскими фильмами. Теперь я почти привык к своей. Я уже не обращаю внимания на грязь. Много лет назад стены, по всей видимости, были зелеными. В то время в камере было электрическое освещение, а также кое-какие предметы мебели, встроенные в стены. От них остались лишь зашпаклеванные отверстия там, где были вбиты деревянные колья. У длинной стены стоит кушетка с соломенным тюфяком. Вместо подушки я кладу под голову одежду. Ночью я укрываюсь четырьмя американскими шерстяными одеялами, но у меня нет простыней. Длинная стена за кушеткой до блеска вытерта телами прежних обитателей. Таз для умывания и картонная коробка с несколькими письмами стоят на расшатанном столике. Кладовка мне не нужна; мне нечего хранить. Под маленьким окошком проходят две трубы отопления. На них я сушу полотенца.
Резкий запах американского дезинфицирующего средства преследовал меня во всех лагерях, через которые мне довелось пройти. В туалете, на моем нижнем белье, в воде, которой я мою пол по утрам — везде присутствует этот сладковатый запах, едкий и напоминающий о больнице.
11 октября 1946 года. Когда в процессе наступил перерыв и судьи несколько недель обдумывали приговоры, я записал несколько обрывочных воспоминаний о тех двенадцати годах, что провел с Гитлером, и через капеллана послал их другу в Кобург. Заметки насчитывают около ста страниц. «Думаю, — писал я в сопроводительном письме (цитирую по памяти), — я более типичный представитель одной стороны режима, чем все эти омерзительные буржуазные революционеры». Мне действительно кажется, что Гиммлеры, Борманы, Штрейхеры и им подобные не могут объяснить успех Гитлера у немецкого народа. Гитлера поддерживали идеализм и преданность таких людей, как я. Именно мы, люди, менее всего склонные к эгоизму и корысти, создали условия для его существования. Преступники и их сообщники всегда где-то поблизости; они ничего не объясняют. На протяжении всего процесса говорили только о тех преступлениях, которые поддаются судебной оценке. Но по ночам, в полумраке своей камеры, я часто задаю себе вопрос: не лежит ли моя настоящая вина в совершенно иной плоскости.
Под влиянием окружающей меня жутковатой, почти невыносимой тишины, где отсчет времени ведется только по смене охраны за дверью камеры, меня одолевают сомнения в точности описания Гитлера на этих ста страницах. В попытке объяснить себе, как я мог так долго находиться в плену его очарования, я слишком часто припоминал мелкие приятные эпизоды: совместные поездки на автомобиле, пикники и архитектурные фантазии, его обаяние, заботу о семьях людей и его кажущуюся скромность. Но я безусловно вытеснил из своей памяти то, о чем с ужасающей ясностью напомнил мне процесс: чудовищные преступления и зверства. В конце концов, именно они составляли суть Гитлера.
13 октября 1946 года. Охранник ходит от камеры к камере. Спрашивает, не желаем ли мы воспользоваться своим правом выйти на прогулку по первому этажу. Двор все еще закрыт для нас. Мне необходимо выйти; в камере я чувствую себя все более подавленным. Поэтому я прошусь на прогулку. Но меня пробирает дрожь при мысли о том, что я увижу приговоренных к смерти. Охранник протягивает хромированные наручники. Нам неудобно спускаться по винтовой лестнице прикованными друг к другу. В тишине каждый шаг по железным ступеням звучит, как раскат грома.
На первом этаже я вижу одиннадцать солдат, которые, не отрываясь, смотрят на одиннадцать камер. Здесь сидят одиннадцать выживших лидеров Третьего рейха. Вильгельма Кейтеля, начальника штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами, не любили и презирали; во время Нюрнбергского процесса он многое осознал и держался с достоинством. Генерал Альфред Йодль был ближайшим помощником Кейтеля. Типичный офицер-интеллектуал Генерального штаба, он, как и многие другие офицеры, был настолько очарован Гитлером, что отказался от нравственных традиций своего класса. Герман Геринг, главный обвиняемый на процессе, высокопарно взял на себя всю ответственность, но при этом приложил немало сил и коварства, отрицая свою вину. Он превратился в распущенного паразита; в тюрьме он снова стал прежним и демонстрировал ловкость, ум и сообразительность. Таким его не видели с первых дней Третьего рейха. Говорят, Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Гитлера, растерял все свое высокомерие и обратился в христианскую веру, что временами кажется неким гротеском. Юлиус Штрейхер, гауляйтер Нюрнберга и один из старейших соратников Гитлера, всегда был чужаком в партии из-за своей маниакальной одержимости сексом, фанатичного антисемитизма и вопиющей коррупции, во время процесса все остальные подсудимые его избегали. Вильгельм Фрик, неразговорчивый человек, который на посту министра внутренних дел придавал правовой статус всем обидам Гитлера. Над Альфредом Розенбергом, утонченным мыслителем и идеологом партии, насмехались все, включая Гитлера; к нашему великому удивлению, защитники Розенберга на процессе сумели доказать, что он считал жестокую политику истребления людей на Востоке фатальной ошибкой, хотя и сохранял преданность Гитлеру. В числе приговоренных к смерти также Фриц Заукель, моряк, доросший до поста гауляйтера. Он истощил свои умственные и моральные силы, поставляя в Германию рабскую рабочую силу с оккупированных территорий. Артур Зейсс-Инкварт, рейхскомиссар Нидерландов, на протяжении девяти месяцев сидел справа от меня на скамье подсудимых: дружелюбный австриец, у которого оказался самый высокий уровень интеллекта из всех нас. Во время процесса я проникся к нему симпатией, потому что, помимо всего прочего, он не пытался уклониться от ответственности. А еще Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, описывал свои чудовищные зверства в дневнике. Но в Нюрнберге признался во всех преступлениях, отрекся от них и стал ярым католиком; ему не изменила способность верить истово и даже фанатично. И последний из них — Эрнст Кальтенбруннер, шеф гестапо, высокий австриец с резкими чертами лицами, но неожиданно мягким взглядом. На процессе совершенно серьезно отрицал подлинность подписанных им документов.
В соответствии с правилами, многие из них лежат на спине, руки поверх одеяла, лицом в центр камеры. Жуткое зрелище — эти неподвижные тела; словно их уже положили в гроб. Один Франк сидит за столом и что-то пишет. Он обмотал шею влажным полотенцем; он говорил доктору Пфлюкеру, что это помогает ему сохранить живость ума. Взгляд Зейсса-Инкварта устремлен в дверной проем; каждый раз, когда я прохожу мимо, он мне улыбается, и каждый раз у меня от этой улыбки мурашки бегут по коже. Долго я не выдерживаю. Вернувшись в камеру, я принимаю решение больше не спускаться туда.