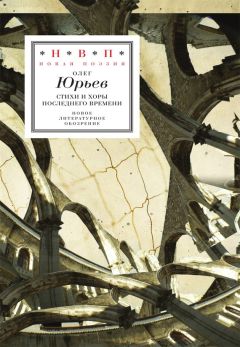Сергей Гандлевский - Бездумное былое
Мама рассказывала, что первое время после свадьбы ее озадачивали внезапные кратковременные исчезновения отца — это он с непривычки и по застенчивости бегал через Можайку (будущий Кутузовский проспект) по нужде на тогда еще дикий берег Москва-реки. Или такой анекдот. Еще в пору ухаживаний отец с букетом ждал мать на Можайке напротив ее дома. Мать опаздывала: политинформация на службе все не кончалась и не кончалась. Минут через пятнадцать отцовского топтания на одном месте двое в штатском препроводили его в кутузку для выяснений: трасса-то правительственная.
Коммуналка была не из легендарных (тусклое ущелье коридора, огромная кухня, с десяток семей и проч.) — в такой я бывал, навещая нашу с братом названую бабушку, Веру Ивановну Ускову, бездетную вдову (муж, разумеется, расстрелян), подругу умершей в середине 50-х маминой мамы. В доме Веры Ивановны позади Музея изящных искусств теперь начальные классы 57-й школы. Коммунальная квартира по Студенческой улице, 28, где я скоротал первые пятнадцать лет жизни, была всего лишь четырехкомнатной. Две комнаты — наши, за стеной — еще четверо: родители и две дочери. Глава семьи — кухонный демагог, изнурявший моего отца прочувствованным и скрупулезным пересказом газетных передовиц, тот еще фрукт. А в четвертой комнате, стиснув зубы, сожительствовали разведенные супруги с фамилией-палиндромом Ажажа. Оба симпатичные люди. Он был океанологом и братом знаменитого в свое время энтузиаста-уфолога, читавшего полуподпольные лекции об НЛО. Магнитофонные записи этих лекций расходились в интеллигентских кругах наравне с бардовскими песнями. Я слышал одну такую пленку, где в конце концов прения сторонников и противников существования внеземных цивилизаций прервал ор уборщицы, чтобы расходились, не то она пустит в ход швабру.
Но меня, подростка, влекли в комнату Эрика Ажажи главным образом не заспиртованные морские гады, не уфология и бардовские песни («Сигаретой опиши колечко, / Спичкой на снегу поставишь точку…») — был магнит попритягательней: подшивки чехословацкого фотожурнала с голыми женщинами.
А в предшествующие, более невинные годы мне немало крови попортила музыка. Почему моих вовсе не привилегированных родителей, живущих в самой гуще советского спартанского быта, потянуло именно на этот атрибут старорежимного воспитания — ума не приложу! Может быть, именно в противовес бытовому минимализму? Лучше бы отдали в английскую школу по соседству. Год я учился скрипичной стойке и возил туда-сюда смычком по струнам, потом пересел за пианино, держал кисть руки «яблочком», барабанил через не хочу этюды Черни и Гедике. Коту под хвост. Теперь я люблю музыку, но нынешняя моя привязанность не имеет никакого отношения к тем истязаниям. Просто в приданом жены оказалась коробка с «Бранденбургскими концертами», и я уже ближе к сорока понемногу вошел во вкус.
А обязательное среднее образование я получал до середины девятого класса по местожительству — в районной школе № 8о (потом она сменила номер на 710). Совершенно случайно школа оказалась сносной, а в старших классах даже хорошей, впрочем, именно в старших я подался в другую. Но об этом потом.
Не помню отчетливого рубежа, но годам к двенадцати-тринадцати я из тихони превратился в подростка с норовом — мой дневник ломился от дисциплинарных замечаний вроде: «На уроке географии бросал тряпку в Казакевича» и т. п. (Как бы для симметрии, лет через пятнадцать, в недолгую пору уже моего учительства, жизнь свела меня с подобными отроками. Приятного мало. Такие юнцы знают кое-что, по сравнению с большинством, не знающим вообще ничего, но ведут они себя, будто знают все, — и умерить их апломб непросто.)
Есть байка и в связи с помянутым Феликсом Казакевичем. Он был моим одноклассником, славным мальчиком из более основательной и традиционной, чем наша, еврейской семьи. Они и жили побогаче — в отдельной квартире по соседству. У него был велосипед, который он однажды не без опаски дал мне на пятнадцать минут. Когда я залихватски вырулил в Феликсов двор часа через два, я застал весь клан Казакевичей в сборе у подъезда, и горбатая бабушка-родоначальница, столетняя, как казалось мне тогда, глянув на очкастого «похитителя велосипедов», изумленно пробормотала: «Аид?»[5]
* * *Советское детство рано научало дипломатии. Была семья со своим словарем, укладом и интересами. Довольно скоро ты овладевал азами двойного сознания: одна и та же тема или деятель истории (Ленин, к примеру) могли совершенно по-разному оцениваться в домашних стенах и в школе, но в школе полагалось держать язык за зубами. Но это еще не все. Был двор, куда всех детей ежедневно отправляли гулять. Но прогулки были далеко не пасторальными: случались жестокие избиения, истязание бездомных животных было в порядке вещей и, разумеется, в ходу были самые барачные представления об интимной жизни. Весь дворовый опыт следовало держать при себе под родительским кровом, прикидываться наивнее, чем ты являлся в действительности. Царило раздолье для душевной неразберихи: благородный до выспренности круг домашнего чтения и «Мальчик из Уржума» на уроке; дворовый переросток Шурик, с комментариями мастурбирующий напоказ перед мелюзгой; приправленные политической крамолой семейные разговоры, плохо стыкующиеся с мажорной гражданственностью школы; показательная казнь кошки и проч. Было от чего уму зайти за разум, и остается только дивиться прочности детской психики. Хотя совсем без фобий не обошлось: шпана и кошки — по сей день постоянные действующие лица моих кошмарных сновидений. Интересно, отдавали себе отчет наши родители, участниками какой заочной педагогической баталии они являлись, подозревали ли об истинном раскладе сил?
Было еще одно привходящее обстоятельство моего детства — постоянные головные боли, почти вошедшие в привычку. Вдобавок лет с девяти до четырнадцати у меня случилось несколько припадков с потерей сознания и судорогами. Светила медицины, к которым мама водила меня, объяснили мой недуг родовой травмой. В итоге я был освобожден от прививок, уроков физкультуры и получил дополнительный свободный день и мешок пилюль. Этой своей неочевидной хворью я попользовался сполна. Я не опускался до примитивной симуляции — я мастерски изображал сборы в школу на последнем пределе сил и терпеливо добивался, чтобы решение о пропуске занятий исходило от отца с матерью. Лишь покуражившись вволю, я сдавался на милость победителей, мама инструктировала меня насчет обеда — какую кастрюлю подогревать и на каком огне, и встревоженные родители уходили на службу. Мне кажется, что именно в один из таких срежессированных прогулов я испытал первый приступ отроческой графомании.