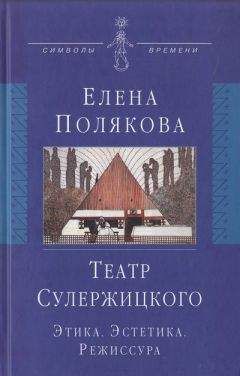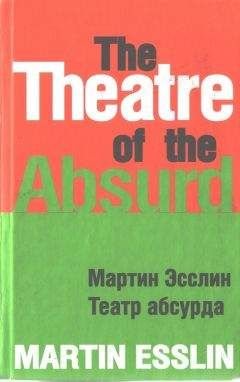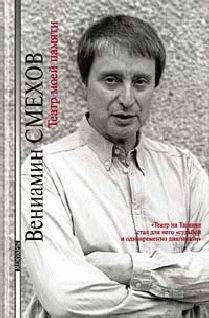Франсуаза Жило - Моя жизнь с Пикассо
— Темная винтовая лестница, по которой вы поднимались сюда, — продолжал Пикассо, — та самая, по которой в бальзаковском «Неведомом шедевре» взбирался юный художник, когда пришел к старому Порбусу, другу Пуссена, писавшего картины, которые никто не понимал. О, весь этот дом полон исторических и литературных призраков. Ну ладно, пойдемте обратно наверх.
Пикассо обошел стол, и мы последовали за ним по винтовой лестнице. Он провел нас через большую мастерскую мимо группы людей, не обративших на нас никакого внимания, в маленькую угловую комнату.
— Здесь я занимаюсь гравировкой, — сказал Пикассо. — И вот смотрите-ка.
Он подошел к раковине и открыл кран. Вскоре от воды пошел пар.
— Чудесно. Несмотря на войну, у меня есть горячая вода. Собственно говоря, — добавил он, — можете приходить сюда принять горячую ванну, когда пожелаете.
Однако интересовала нас прежде всего не горячая вода, хотя в то время в домах она была редкостью. Глянув на Женевьеву, я подумала: «О, хоть бы он перестал говорить о горячей воде и показал нам картины!» Но вместо этого Пикассо прочел нам краткую лекцию на тему, как делать канифоль. Я уже склонялась к мысли, что нам придется уйти, не увидев ни одной картины, и никогда не возвращаться сюда, когда Пикассо наконец повел нас в большую мастерскую и начал показывать полотна. Помню, на одном был вожделенно кукарекающий петух, очень пестрый и красочный. Кроме него был другой того же периода, но очень суровый, черно-белый.
Примерно в час дня окружавшая нас группа распалась, и все направились к выходу. В тот первый день меня больше всего поразило, что мастерская казалась храмом своего рода культа Пикассо, и все находившиеся там, судя по всему, были полностью поглощены этим культом — все, кроме самого кумира. Пикассо, казалось, воспринимал все это как должное, но не придавал этому никакого значения, словно стараясь показать нам, что не имеет ни малейшего желания быть кумиром.
Когда мы собрались уходить, Пикассо сказал:
— Если пожелаете придти еще, непременно приходите. Но только не как паломники в Мекку. Приходите потому, что я вам нравлюсь, что вам интересно мое общество, потому что хотите прямых, простых отношений со мной. Если вам хочется только посмотреть мои картины, то с таким же успехом можно пойти в музей.
Я не восприняла это замечание особенно серьезно. Прежде всего, его картин в парижских музеях тогда почти не было. Затем, поскольку он был у нацистов в списке запрещенных художников, ни одна частная галерея не могла открыто выставить его многочисленные картины. А художнику не интересно разглядывать работы коллеги в альбоме репродукций. Так что если кому-то хотелось увидеть его новые работы — как мне — то идти было почти некуда, кроме дома номер семь по улице Великих Августинцев.
Через несколько дней после моего первого визита к Пикассо, я заглянула в галерею, где мы с Женевьевой устроили свою выставку. Заведующая взволнованно сообщила мне, что совсем недавно приходил невысокий мужчина с пронзительными черными глазами, одетый в матросскую тельняшку. После первого потрясения она осознала, что это Пикассо. По ее словам, картины он разглядывал пристально, а потом ушел, не сказав ни слова. Возвратясь домой, я сообщила Женевьеве о его визите. Сказала, что, видимо, он пришел посмотреть, насколько плохи наши картины, убедиться в справедливости высказанного им в «Каталонце» замечания: «Девушки с такой внешностью не могут быть художницами».
Женевьева имела более оптимистическую точку зрения.
— На мой взгляд, это очень мило, — сказала она. — Видно, что он проявляет подлинный интерес к работам юных художниц.
Я так не думала. Считала, что это в лучшем случае любопытство.
— Он просто хотел посмотреть, что у нас есть за душой — если есть хоть что-то.
— До чего ты цинична, — сказала Женевьева. — Мне он показался очень любезным, открытым, простым.
Я ответила, что, возможно, он хочет казаться простым, но я заглянула ему в глаза и увидела в них отнюдь не простоту. Правда, меня это не пугало. Даже побуждало опять придти к нему. Выждав с неделю, я однажды утром вернулась на улицу Великих Августинцев, прихватив с собой Женевьеву. Дверь открыл, разумеемся, Сабартес и высунул голову, словно лиса. На сей раз он впустил нас, не говоря ни слова.
Помня по первому визиту очень милую, освещенную сквозь высокое окно переднюю с множеством растений и экзотических птиц в плетеных клетках, мы решили слегка расцветить эту зелень и принесли горшочек с цинерарией. Увидя нас, Пикассо рассмеялся.
— К старикам не приходят с цветами, — сказал он.
Потом увидел, что мое платье того же цвета, что и цветы.
— Вижу, вы все продумали.
Я вытолкнула вперед Женевьеву.
— Вот красота, за ней следует ум, — напомнила я Пикассо.
Он внимательно оглядел нас, потом сказал:
— Это еще неизвестно. Пока что я вижу только два разных стиля: древнюю Грецию и Жана Гужона.
В наш прошлый визит Пикассо показал нам всего несколько картин. И теперь решил восполнить это. Нагромоздил их кучей. На мольберте стояла картина; он пристроил сверху еще одну; по одной с боков; поверх них пристроил другие, и, в конце концов, получилось сооружение, напоминающее акробатическую пирамиду. Впоследствии я узнала, что он расставлял их так почти ежедневно. Они всегда каким-то чудом держались, но едва их касался еще кто-то, падали. В то утро на картинах были петухи; потрясала стойка «Каталонца» с черешнями на коричнево-белом фоне; маленькие натюрморты, некоторые с лимонами, многие со стаканами, с чашкой и кофейником, с фруктами на клетчатой скатерти. Казалось, он устраивал представление, приводя в определенный порядок цвета и поднимая их на подмости. Там была еще одна картина, привлекшая мое внимание. Выполненная в землистых тонах, очень близких к кубистскому периоду, она изображала большую обнаженную; вид сзади с поворотом в три четверти предоставлял возможность составить представление о натуре в целом. Были виды маленького мыса в западной части острова Ситэ неподалеку от Нового моста, с деревьями, каждая ветвь которых состояла из отдельных точек краски, в манере, очень напоминавшей Ван Гога. Было несколько матерей с огромными детьми, достигавшими головой верхнего края холста, несколько в духе каталонских примитивистов.
Многие из картин, которые Пикассо показывал нам в то утро, имели кулинарную основу — освежеванные кролики или ощипанные голуби с горошком — своего рода отражение времени, когда большинству людей было трудно раздобыть еду. Были и другие, с сосиской, приклеенной словно коллаж к старательно выписанному фону, были портреты женщин в шляпках с лежащими наверху вилками или рыбами и другой едой. Наконец, он показал нам серию портретов Доры Маар в очень искаженной форме, которые писал больше двух лет. По-моему, они принадлежат к одним из лучших его работ. Выполненные на беловатом фоне, эти портреты кажутся символами человеческой трагедии, а не просто деформацией женского лица, как может представиться поверхностному взгляду.