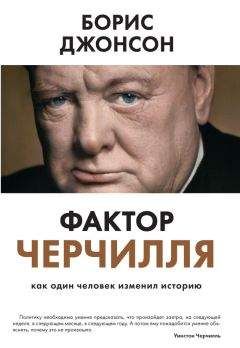Александр Судоплатов - Дневник
Александр Судоплатов остается загадкой. Размышляя о нем, я задаюсь вопросом: почему человек, который вел столь подробный дневник в тяжелых условиях войны, не продолжил писательскую деятельность в эмиграции? Но теперь уже никого не спросишь. Вполне возможно, он и писал, но, будучи человеком скромным или из-за отказа в «Русской мысли», это занятие скрывал. При этом он по собственной инициативе написал отцу о своем дневнике, может быть с мыслью, что тот предаст его гласности, но это уже моя интерпретация. Ведь Судоплатов расставался со столь важным для него документом. Интерпретация поведения в данном случае имеет отношение к памяти. Толковать – значит помнить.
Благодаря киевской встрече и заинтересованности в Дневнике И.Д. Прохоровой и А.И. Рейтблата, мы смогли предать гласности этот забытый исторический документ.
Дневник
Добрая память дорогих алексеевцев
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя…
Увы, утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но в мире есть душа одна –
Она до гроба помнить будет.
……………………….
Им жаль несчастных матерей,
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей.
10 февраля / 28 января 1924 года
Несколько дней тому назад я, скуки ради, решил перечитать мои дневники, написанные на Кубани и в Крыму карандашом на отдельных тетрадках, добытых различными способами и в разное время. Каково же было мое огорчение, когда я, перелистывая старые записи, увидел, что многие страницы сплошь стушевались и не только не видно [некоторых] слов, но даже трудно определить отдельные строчки. Так как дневники эти составляют для меня большую память и они дороже мне последних брюк, то я решил немедленно их переписать заново, чернилами и в одной большой тетради. Труд нелегкий и долгий, но только одна ценность этих листочков и придает мне бодрости. Сегодня начинаю – не знаю, когда окончу. Буду переписывать все дословно, переведу и все рисунки с их характерным начертанием; и, переписывая все это вторично, буду переживать эти памятные годы. Опять вспоминать Кубань, где я нередко писал дневник мимолетом в станицах, Кавказские горы, где потерял надежду эвакуироваться и уничтожил дневники, Крым – где опять восстановил. Десанты, в которых трепались дневники, нередко пробуя морскую ванну. И, наконец, последняя тетрадь на транспорте «Саратов», на котором я ушел, покинув Родину. Так как дневники часто уничтожались, а потом снова восстанавливались, то я мог делать погрешки, небольшие, правда, в датах, а затем в названии сел, а особенно кубанских станиц, что и есть ужасно, к сожалению, я не могу по памяти их воспроизвести сейчас. Но для меня это не важно, важны факты, а они все, надеюсь, будут переписаны верно. Пишу это и даю слово ревностно довести до конца начатое дело, чтобы оставить себе на память «дела давно минувших дней» и в минуты уныния забываться в дорогих строках далекого времени.
Александр Судоплатов10 февраля н. ст. 1924 годаБелградСербия1919 год
9 декабря ст. стиля. Бахмут[10]. Сегодня рано утром (еще темно) нас разбудил взводный. «Вставайте! – говорил он, входя в комнату. – Выходите с вещами и с винтовками, да быстро!» – добавил он, видя, что мы «нежимся» на соломе, удивленные таким ранним визитом его. Делать нечего, встаем и быстро одеваемся. Тихий[11] в потемках натягивает штаны, бормоча под нос: «Чого цэ так рано – мабуть большевыкы блызько!»[12] – заключает он. В душной комнате сопенье и шорох одевающихся. Хозяин, разбуженный вошедшим взводным, молча слез с печки и, придерживая одной рукой кальсоны, осторожно ступая босыми ногами, чтобы не наступить на кого-либо из нас, пробрался к лампе, и через минуту комната озарилась тусклым светом.
– Ну я уже готов! – вскочил Тихий, расчесывая пятерней лохматую голову. – Пока вы оденетесь, я чай вскипячу. Хозяин, где у тебя вода?
Вдруг в окно застучали.
– Ну что, долго вас дожидаться? – раздался за окном сердитый тенор отделенного командира.
– Напились! – злобно бормочет Тихий, с грохотом ставя ведро под лавку и цепляя через плечо вещевую сумку.
Еще звезды догорали на темном небосклоне. Восток уже светлел. После осенних дождей почва совершенно раскисла, и, выйдя из дверей, мы в темноте зашлепали по жидкой грязи. Сначала в темноте ничего нельзя было разобрать, но потом мы рассмотрели, что узкая улица вся запружена повозками с разным скарбом, некоторые выезжали из ворот соседних дворов, внося в узкую улицу еще больший беспорядок. Все это полковой обоз на обывательских лошадях. Слышались крики, брань, переругивания. Между повозками сновали люди с вещевыми мешками и винтовками.
– Куда прешься! – слышались голоса. – Какой роты?
– Нестроевой![13]
– Нестроевой…………. осади! Что здесь вам…………. что ли?!
– Да вы осторожней, с кем разговариваете?!
– Я поручик Смирнов, начальник обоза первого разряда[14], приказываю вам!..
– Замолчите, поручик… Я вас арестовываю, я полковник Носицкий, командир нестроевой роты…
В другом месте шел спор из-за женщин.
– Куда лезете с бабами! – кричал какой-то офицер. – Приказа не читали!..
– На черта мне ваши приказы, когда я вам приказываю пустить повозку!..
– А я не пущу!..
Путаясь между повозками, едва вытаскивая ноги из грязи, мы наконец нашли свою роту, она была в сборе.
– Кто пришел? – грозно спросил фельдфебель, держа список в руках. – Шатаются там! – добавил он, отмечая нас в списке. Мы пристроились на левом фланге, я спереди, мой Тихий, левее меня Половинка и Шпак – оба почтовые служащие из ст. Желанной[15].
– Ну и здорово же тот осадил бабу, – бормотал Тихий, оглядываясь назад.
– Кого? – спросил Половинка.
– Да знаешь того рыжего поручика, что с женой, – иду я вчера по улице, а он – эй, нижний чин[16], почему чести не отдаешь, под арест захотел!.. А сегодня его самого не пускают с бабой, – фыркнул Тихий. – По-моему, всех баб бросить к чертовой матери, – добавил он и сплюнул. – А то таскают…
– Нижним чином обозвал, – осведомился сосед справа от меня в заячьей капелюхе[17] с саквояжем в руке, – и вы ничего?
– А што ж?! – удивился Тихий.
– Хм! – фыркнул сосед в капелюхе. – Да я его в морду бы!..
– Кого?! Ахвицера? – удивился Тихий.
– А то ж ково? – усмехнулся «капелюха». – Мало ли мы их перебили!.. – добавил он и покосился на меня.
«Вот тебе и раз, – подумал я, – вот так рота, куда я попал, – здесь такие речи, а когда дойдет до дела, что то будет – посмотрим, что дальше будет». Недаром Митя В…, удравши с фронта, ругал Добровольческую армию и говорил, что жестоко разочаровался в ней и ни за какие коврижки он не вернется к ней.
– Смирно! – раздался голос фельдфебеля.
– Напраааа-во! – На плечо! – Шагом марш!
Обходим повозки. Толпимся на узком тротуаре, держась за мокрые доски забора, чтобы не упасть в грязь, и наконец выходим на широкое шоссе. Уже окраина города. Наш 1-й батальон громадный, более тысячи человек, наша 2-я рота 280 человек. Идем в ногу, какая-то баба вышла за калитку, крестит нас и плачет. Выходим в поле. Легкий ветерок. Уже рассвело. Прощай, Бахмут! Когда-то я тебя увижу снова. Увижу ли?
Зайцево. 12 декабря ст. ст. Вот уже четвертый день идем. Грязь невылазно. Грязны все, как свиньи. Сделали от Бахмута верст[18] семьдесят. Ноги у меня страшно натерты, так, что больно разуваться. Портянки прилипают к натертым местам, страшно больно. У Тихого тоже – это просто мука. Особенно если приходится идти по густой грязи. Сапог задерживается, нога движется в сапоге, и раны болят. Сегодня делаем дневку. Пообедали суп, в котором горошина горошину догоняет с дубиной, – смеялись солдаты. Лежим в теплой хате мужика на соломе, как свиньи. Я пользуюсь отдыхом, пишу дневник. Тихий все спрашивает, что я пишу, и, узнав, что дневник, и увидев в нем рисунки, просит срисовать его. Делать нечего, рисую.
Горловка. 13 декабря ст. ст. Сегодня вечером пришли в Горловку. Людей осталось в роте ¾ всего состава, остальные разбежались, но все-таки рота большая, человек до 200 будет. Остановились у одного еврея. Жид боится, наверное, чтобы его не ограбили, и всячески заискивает, поддакивает и расхваливает нашу армию. Дал нам простыни, подушки. Сам с семьей спал где-то в стороне, а нам предоставил спальни и столовую. Тихий, Половинка и другие прямо в сапогах полезли на одеяла и затеяли борьбу на мягких перинах. Я спал в столовой на кушетке. Первый раз за две недели спал на подушке и простыне. Сменил белье. К нам примазался какой-то солдат с фронта, очевидно дезертир. Он говорит, что армия наша разбита и отступает и что кадетам, очевидно, конец.