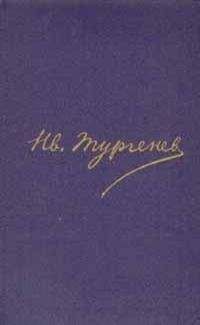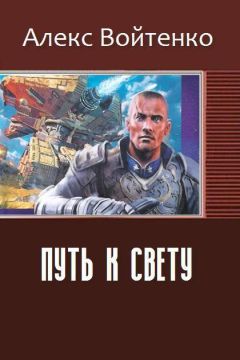Герберт Уэллс - Опыт автобиографии
Оружием Уэллса было слово, речь. Он много выступал на всякого рода собраниях и политических митингах, особенно в 1922 и 1923 годах, когда безуспешно пытался пройти в парламент, ездил с лекциями по стране, читал их за границей, излагая свои идеи о переустройстве общества и ликвидации угрозы войны. Одним из самых интересных экспонатов оказались представленные Би-би-си записи выступлений Уэллса. Не того, конечно, периода, когда он начинал карьеру оратора и, по воспоминаниям современников, от смущения «адресовался к своему галстуку», в те времена звукозапись была достаточно сложна, а Уэллс недостаточно известен. Посетителям проигрывалась запись конца 30-х годов его диспута с Бертраном Расселом. Но и здесь Уэллс не отвечал тому идеалу, который сам для себя создал, — слишком велик был этот идеал. Когда Уэллс заканчивал свою журналистскую карьеру, ему неожиданно предложили место театрального критика, о котором он хлопотал довольно давно. Теперь ему это было не очень нужно — на подходе была «Машина времени», — но он с готовностью принял предложение и чуть ли не первый раз в жизни пошел в театр. Там он увидел высокого рыжего ирландца, в котором сразу признал Бернарда Шоу, подошел к нему, познакомился и потом дружил и ссорился с ним всю жизнь. Шоу и был на протяжении десятилетий лучшим непарламентским оратором Англии. Как завидовал ему Уэллс! И как остро на каком-нибудь публичном диспуте чувствовал разницу между собой и другом-соперником! Слушая запись голоса Уэллса, я отчасти понял, почему так получалось. Уэллса никак нельзя назвать прирожденным оратором: голос высокий и тонкий, речь чересчур возбужденная, а манера говорить — после стольких-то лет успеха! — довольно «простонародная».
Зато Уэллс был силен в слове, перенесенном на бумагу. И разумеется, большая часть выставки отводилась его книгам. Точнее — рукописям. За перо он, оказывается, взялся еще ребенком — посетители могли увидеть детские сочинения писателя и очень много рисунков. А рисовал Уэллс всю жизнь, притом в очень своеобразной манере. Этими своими смешными «ка-атинками», как их называл Уэллс, он часто заканчивал письма, а иногда ими заменялись письма — внизу оставалось место только для одной строчки. Есть у Уэллса и целая книга с собственными иллюстрациями, довольно большая по формату. Это коротенькая детская сказка «Приключения Томми» — о мальчике, который спас из воды спесивого богача, и тот подарил ему слона.
Думается, на этой выставке многие впервые узнали, что Уэллс в молодости писал и философские работы. Его статья «Новое открытие единичного» — о детерминизме и свободе воли — была представлена на одном из стендов. Когда она впоследствии мне понадобилась, я понял, как трудно ее добыть.
Уэллс начинал как журналист, но его журналистское наследие серьезно никто не изучал. Только в 1964 году вышла превосходная книга молодого американского профессора Уоррена Уэйгера «Г.-Дж. Уэллс: Журнализм и пророчество», но и в ней ранней публицистике писателя уделено очень мало внимания — литературоведов больше интересует, что другие писали об Уэллсе, чем то, что писал он сам, будучи молодым журналистом. В 1962 году в Норвегии появилась академически добротная книга Ингвальда Ракнема «Уэллс и его критики», в 1972 году в Англии и США — антология Патрика Парриндера «Г.-Дж. Уэллс. Критическое наследие». Уэйгер и Парриндер мне свои книги прислали. Ракнема я тоже где-то достал, но воспользоваться по-настоящему этими исследованиями не успел, лишь добавил кое-что в итальянское издание 1972 года своей книги.
Для меня выставка была источником не просто интереса, но, я бы даже сказал, радости. Я почувствовал себя как никогда приобщенным к Уэллсу. Здесь были практически все первые издания книг моего любимого писателя и книги, в которых он так или иначе принимал участие. Их число достаточно велико: Уэллс считал своим долгом помогать молодым авторам, а лучший вид помощи видел в том, чтобы писать предисловия к их книгам. Увы, эти предисловия остались чем-то вроде акта благотворительности, не более; ни одного значительного литературного имени Уэллс не открыл. И тем не менее эти «проходные» вещи тоже по-своему определяли характер выставки. Она оказывалась чем-то гораздо большим, нежели просто собранием книг, чем-то похожим на музей Уэллса, где он был представлен самым главным — своим творчеством.
Посетителям раздавались крохотные буклетики. Я знал, сколько трудов вложил в устройство выставки мистер Уоткинс, и удивился, не увидев его имени в перечне тех, кого благодарили за помощь. Мистер же Уоткинс, в свою очередь, удивился моему вопросу: он ведь муниципальный служащий, это его обязанность, не может же он, в конце концов, сам себя благодарить!
Многие годы я продолжал с ним переписываться, прежде всего по делам Уэллсовского общества. В своих последних письмах мистер Уоткинс рассказывал о печальных событиях, связанных с именем великого фантаста. Умер младший сын Уэллса, кинематографист, работавший еще с Александром Кордой, но не слишком преуспевший в своей профессии. Потом за ним последовал в мир иной его старший брат, зоолог. Умерла Ребекка Уэст.
С Ребеккой Уэст я так и не познакомился. Насколько помню, в дни юбилея ее просто не было в Лондоне, а вот Уэллса-ученого и Уэллса-кинематографиста встретил на большом юбилейном приеме, устроенном Обществом писателей. Первый очень походил на отца, хотя, как мне говорили, был совсем лишен его обаяния. Сразу бросалось в глаза, что этот человек в жизни преуспел. Второй, напротив, казался образцом застенчивости. Он сунул мне руку, минуту постоял, глядя в пол, пробормотал весь положенный набор вежливых фраз и куда-то заспешил.
Прием Общества писателей был устроен в помещении лондонского планетария. Поначалу он походил на великосветский раут. Дамы в вечерних туалетах, мужчины, одетые к торжественному случаю, вдоль стен — столы с напитками и какими-то умопомрачительными закусками, веселое оживление среди присутствующих, обмен улыбками, рукопожатиями, любезностями… Но то ли натура у меня прозаическая, то ли я не рожден для высшего света, но меня больше всего заинтересовали вопросы практические. Кто, например, эти юные девушки, стоящие за праздничными столами? Выяснилось — писательские дочки. И это пиршество — дело их рук. Они всё сами дома приготовили, сами принесли и здесь разложили. Признаться, подобная самодеятельность показалась мне весьма симпатичной. В писательских семьях слуг ведь не держат и в роскоши не купаются…
Прием проходил в фойе. Постепенно шум стал стихать, и мы повернулись к лестничной площадке, от которой широкие ступени вели в зал планетария. На площадке стоял Уэллс — восковая фигура из расположенного по соседству Музея мадам Тюссо. И вот рядом с Уэллсом начали возникать фигуры ораторов. Уэллс в жизни был маленького роста, и музей ему не польстил.