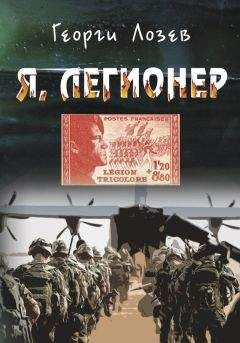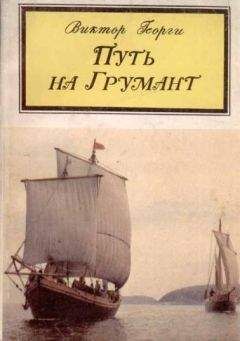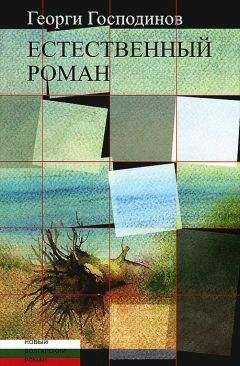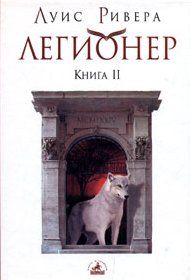Александр Бенуа - Мои воспоминания. Книга первая
Случалось императору во время обозрения выставки и шутить или же он отвечал громким на весь зал хохотом на те остроты или маленькие потешные анекдоты, которыми его тешили наши специалисты по этой части: бонтонно-грубоватый Вилье и разыгрывавший из себя простачка, искусный маринист А. К. Беггров. На ужинах у Альбера тот же Беггров отличался неисчерпаемым запасом самых гривуазных, самых сальных анекдотов, которые он подносил товарищеской компании с особым смаком. Но Беггров обладал достаточным тактом, чтобы припасать для забавы государя и сопровождавших его дам шутки и словечки совершенно иного содержания и тона. Подносил же свои остроты этот неказистый с виду человек всегда кстати, точно невзначай и без того, чтобы выдать их заблаговременную отделку.
Из шуток самого государя мне запомнилась одна, которую он себе позволил произвести над особой своей троюродной сестры — принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской. Принцесса почти всегда была одета в костюм-тайер, иногда темно-синего, но чаще светло-серого или бежевого цвета. Этому полумужскому наряду полагалось иметь сзади раскрывающиеся фалды. И вот мы все были свидетелями того, как Александр III, самодержец всероссийский, осторожно подкравшись сзади к принцессе, ни с того, ни с сего раскрыл эти фалды и даже, манерно схватив кончиками пальцев, подержал их несколько секунд в таком положении. Спору нет, шутка эта была несколько дурного тона и какая-то чисто мальчишеская; вероятно, то была своего рода реминисценция тех невинных шуток, которые те же персоны шутили между собой лет сорок тому назад, когда они были детьми. Но Евгения Максимилиановна без всякого снисхождения отнеслась к ней. Обыкновенно очень бледная, она вся побагровела и буквально крикнула на государя: «Что за манеры? Стыдно!» И трогательно было видеть, как колосс самодержец после такой реприманды выразил свое раскаяние, и до чего он был сконфужен. Внизу перед тем, чтобы выйти на улицу и сесть с государыней в двухместные сани (с великолепным казаком на запятках), государь, прощаясь с обиженной кузиной, еще раз при всех нас, гурьбой обступивших, произнес фразу вроде: «Не надо на меня обижаться», на что принцесса только пригрозила ему пальцем, без тени улыбки на лице.
На акварельной выставке 1892 года мне снова выдалась честь водить императрицу и великую княжну Ксению. Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитой Биржи со шпилем, составленным из хвостов сплетенных между собой драконов. Не скрою, что при выборе такого мотива среди фотографий, привезенных из моего первого заграничного путешествия, у меня был расчет посредством именно этого вида привлечь внимание бывшей датской принцессы. И этот расчет вполне оправдался. Государыня Мария Федоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью. «С возраста самого нежного, сударыня», — был мой претенциозный ответ, вызвавший улыбку у обеих дам. Должен сказать, что я вообще был очарован императрицей. Даже ее маленький рост, ее легкое шепелявенье и не очень правильная русская речь нисколько не вредили чарующему впечатлению. Напротив, как раз тот легкий дефект в произношении вместе с ее совершенно явным смущением придавал ей нечто трогательное, в чем, правда, было мало царственного, но что зато особенно располагало к ней сердца.
Одета государыня всегда была очень скромно, без какой-либо модной вычурности, и лишь то, что ее лицо был сильно нарумянено (чего не могла скрыть и черная вуалька), выдавало известное кокетство — вечно женственное. Отношения супругов между собой, их взаимное внимание также не содержало в себе ничего царственного. Для всех было очевидно, что оба все еще полны тех же нежных чувств, которыми они возгорелись четверть века назад. Это тоже было очень симпатично. Характерно еще, что во время обхода выставки государь несколько раз подходил к жене, желая обратить ее внимание на то, что ему понравилось.
Менее выгодное впечатление производил цесаревич — наш будущий государь. Начать с того, что вид у него был маловнушительный и несколько простоватый. Форма преображенца не шла ему, и в ней он имел вид (то было общее мнение) «армейского офицерика». Рядом с отцом он казался маленьким, и его жесты отличались той развязностью, которая бывает у людей, попавших не в свое общество и желающих скрыть, что им не по себе. Он как-то резко поворачивался, как-то странно шаркал ногами, а его привычка водить пальцами по ряду пуговиц на сюртуке имела в себе оттенок назойливого тика. Цесаревич слишком явно скучал, показывал, что ему нет никакого дела до этих совершенно неинтересных картинок и до этих невзрачных господ, что пришли этими картинками торговать. При этом не надо думать, что такое отношение происходило от какой-то утонченности его вкуса. Он шел за отцом, но глядел по сторонам, а не на произведения художников, а к последним никогда прямо не обращался. Видно было, что для этого молодого человека посещение выставки настоящая повинность. Вероятно, его брали с собой родители насильно, и он соглашался сопровождать их только потому, что привык им повиноваться, или еще потому, что ему как раз в эти часы ничего другого более занимательного не предстояло.
Не более выгодное впечатление производил Николай Александрович и на улице, когда совершал свою ежедневную прогулку в санях или на дрожках. Иногда его можно было видеть в гусарской форме, но и она его не красила, а в том, что он как-то неестественно заносил голову в меховой шапке с высоченным султаном, было опять-таки что-то ребяческое и неубедительное. Эти «образы» не сулили в будущем, что нами будет править настоящий государь. Но это будущее казалось еще в начале 1894 года чем-то далеким, недосягаемым; ведь глядя на богатырскую фигуру Александра III, можно было быть уверенным, что государь обладает всепобеждающей выносливостью и железным здоровьем.
Участие на акварельных выставках особой пользы мне для художественного развития не принесло, если только не считать того чувства внутреннего стыда, которое я испытывал при каждом таком ежегодном испытании. Стыд этот, происходивший от сознания малого достоинства (а то и плохого качества) моих произведений, вызывал во мне, со все еще усиливающейся остротой, самокритику и желание к следующему году исправиться, сделать лучше. Более реальную пользу приносили мне работы, которые я не предназначал для показа публике и в которых я не искал одобрения признанных художников. Такими полезными работами были уже помянутые летние этюды с натуры, а также те копии со старых мастеров, которые я отважился делать в Эрмитаже как раз осенью 1893 года. Правда, я не исполнил за недосугом и половины намеченной себе программы: надлежало готовиться к государственному экзамену, но то, что я успел сделать, меня многому научило. Особенное старание и выдержку я приложил, работая над копией (пастелью) с изумительного «Портрета неизвестного» Франса Хальса (с тех пор проданного большевиками и ныне находящегося в Вашингтонском музее) и над копией (акварелью) с восхитительного «Берега Схвенингена» ван Гойена. Самый этот выбор уже показывал как известную зрелость моего вкуса, так и мое тяготение к искусству живому, непосредственному, правдивому. Но главное тут было не в воспитании вкуса и даже не в том, насколько самые работы мне удались, сколько в том, что в течение всей осени и первой четверти зимы я целые дни проводил в нашем чудесном музее среди божественных шедевров. Я как бы жил здесь в обществе Ван-Эйка, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Пуссена…