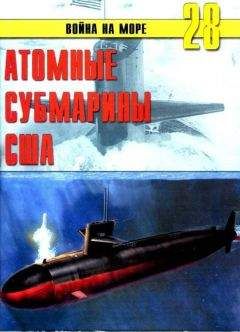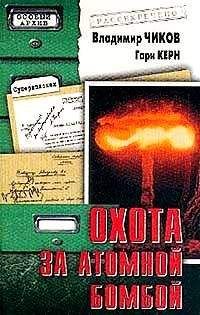Вера Аксакова - Дневник. 1855 год
Керчь отдана без боя, и жители оставлены на разграбление и мучения врагов; вероятно – измена, иначе объяснить нельзя. Отняты наши самые важные редуты, с которых теперь враги наносят нам самый ужасный вред. Приступ на Малахову башню, слава Богу, был отбит с большим уроном для неприятеля, и после того, кроме обыкновенной канонады, до сих пор не было еще ничего важного, но на днях получено известие, что мы перешли. Черную речку, делали нападение и должны были отступить после кровопролитного сражения, потому что у нас было мало войск сравнительно. Но зачем у нас было мало, когда их теперь так много под Севастополем? Говорят, убиты три генерала.
Привезли газеты и письма. В «Московских ведомостях» еще нет подробностей о неудачном нашем нападении, а в «Инвалиде», говорят, уже есть; но напечатана телеграфическая депеша от Горчакова, что 5-го началось вновь сильное бомбардирование и продолжалось 6-го в то время, как была писана депеша; мы заставили замолчать несколько неприятельских батарей, что-то будет!Завтра или послезавтра воротится, вероятно, Константин из Москвы, куда он поехал в четверг для свидания с своими приятелями, которые все должны быть в сборе в это время в Москве по разным причинам, но более всего потому, что ведутся переговоры о журнале, покупают у Погодина «Москвитянин» с тем, чтобы переменить название. Говорят, западная сторона уже добилась себе журнала в Москве и употребляет на это большой капитал. Все эти сведения сообщил нам Самарин, который был у нас 7 августа с князем Владимиром Черкасским совершенно неожиданно. Черкасский давно собирался познакомиться с отесенькой, просил позволения приехать, но не мог попасть, по разным обстоятельствам; теперь же, уезжая из Москвы с тем, чтобы прожить зиму в деревне, он захотел хотя на короткое время побывать у нас. Письма получены от Гриши два, от Юрия Оболенского и из деревни и еще письмо к Сонечке. Гриша хлопочет в своем новокупленном имении, Софья, кажется, очень довольна и Оля также, Господь с ними, дай Бог, чтоб все было благополучно. Юрий Оболенский все собирается к нам – пишет – по делу.
14 августа. У нас сидел сосед наш Пальчиков, заехавший после обедни, и в это время приехал Константин. Вести самые грустные, мы потеряли ужасно много, убитых и раненых всего тысяч 6 человек, и даром, все даром. Покуда Горчаков, конечно, надобно ожидать только неудач и гибель.
18 августа. Уже часов в 10 вечера приехали Вась-ковы, муж с женой. Федор Иванович выбран начальником костромского ополчения и провожает свои дружины.
1 сентября. Боже мой, какое известие! Севастополь взят! Как громом поразило нас, неужели это правда, но сомневаться нельзя! Маменька ездила в Хотьково к обедне и там видела дам, только что приехавших из Москвы, которые сами читали уже напечатанную депешу. – Но, конечно, чего можно было ожидать при Горчакове! Он, верно, отступил на Бельбек и оставил гарнизон на жертву. Он умел только погубить бесполезно людей в безумном предприятии на Черной речке; сам Пелисье пишет, что там нельзя было действовать массами, а тут, когда, как все говорят, надобно было бы попасть во время приступа на врагов сбоку, он этого не делает. Все его Коцебу, который отличился особенно планом сражения на Черной. Даже из Одессы пишут, что Остен-Сакен на военном совете был против этого плана. – Что же теперь будет! Севастополь взят, значит и Крым весь завоеван. Конечно, не Горчакову удержать его. Я, признаюсь, везде вижу измену, да и в иностранные журналы пишут из Одессы об деле на Черной, что, вероятно, шпионы уведомили врагов о нашем движении; но не только шпионы, в Москве говорят об измене какого-то генерала. Немудрено, Горчакова окружают все поляки и немцы. – Но что бы то ни было, бедствия и бедствия; кто бы и как бы ни был виноват, Господь допускает совершаться всем этим бедствиям нам в наказание за грехи наши, и как заслужили мы гнев Божий по грехам нашим и теперь не каемся и теперь не обращаемся… Страшно! Боже милостивый, что же еще должно постигнуть нас! Обрати нас и помилуй ради милости Твоей! О Боже, не до конца прогневайся на нас. Господи, коснись сердец наших, отверзи очи наши, да покаемся! Государь, верно, отложит свою поездку в Москву, верно, не захочет показаться народу в минуту такого бедствия, в котором его же могут обвинить. Конечно, он виноват, что давно не сменил Горчакова и Долгорукова.
Как жаль, что не захотели поручить дело Ермолову, из подлого мщения и боязни; конечно, при Ермолове этого не было бы. Государь говорит об общественном мнении, но до сих пор, кажется, еще ни в чем его не послушался. Сменил только Бибикова, который в настоящую минуту всех менее мог сделать зла. Есть дела, которые не терпят отлагательства, и гибель десятков тысяч людей должна бы заставить забыть всякие выжидательные меры и деликатности. Что-то он будет делать теперь? На что решится?
Получены газеты, и в них приложены печатные известия, телеграфная депеша о взятии, или лучше об уступке Севастополя, потому что Горчаков сам пишет, что приступы были отбиты, кроме Малаховской башни, но что оставаться под таким огнем нельзя и что войска переходят на северную сторону, т. е. он отдал весь Севастополь со всеми его укреплениями. Боже мой! Зачем же было их делать? Конечно, если б был Ермолов и даже Меншиков, этого бы не было. Право, можно подозревать измену, и если не в самом Горчакове, то в его окружающих. – Но какое бы то ни было страшное, горестное, событие, которое будет иметь для нас самые пагубные следствия, совершилось: Севастополь отдан, значит, и Крым нам уже не принадлежит. Если Горчаков не сумел удержаться за такими непреоборимыми укреплениями, то как же может он устоять в открытом поле. Он бежит до самого Перекопа и, сдавши Перекоп, с торжеством взойдет в Россию и еще будет пожалуй хвалиться, что совершил в порядке отступление. Но что бы то ни было, дело совершилось; все жертвы, все гибели людей, все неимоверные труды и подвиги – все было понапрасну, больно и обидно, и впереди все то же и то же, полная безнадежность. Получен ответ от князя Вяземского Константину, ответ такого рода; какого и ожидать было нельзя: это не только любезное и дружеское письмо, но полное юношеского увлечения, мечтаний, которые он надеется осуществить на своем новом поприще. Дело вот в чем: он сделан товарищем министра народного просвещения совершенно неожиданно для всех; Константин, узнавши об этом, написал ему с своим добродушным доверием и откровенностью очень просто, что просит похлопотать о снятии подписки с него и с Хомякова, Киреевского, Черкасского и с брата Ивана, на которой они обязаны представлять свои сочинения не иначе как в главное управление цензуры, и при этом рассказал ему, как его статья о глаголах полтора года цензуровалась, Константин прибавил, что он, зная его, уверен, что он сам постарается об этом, что назначение его возбудило во всех благие надежды. Вяземскому, видно, было очень приятно это доверие, он благодарит за благосклонное мнение о себе, за надежды; просит горячо содействия, говоря, что теперь именно такие люди, честные, истинно русские необходимы для правительства, что надобно, чтоб не было недоразумения между правительством и ими и т. д.; оговаривается только в том, что всякий должен оставить для того свои коньки, т. е. личные прихоти, но никак не убеждения, и под скрипом прибавляет: «Вам покажется по письму моему, что я вербовщик, что ж, если б мне удалось завербовать вас, то царь, отечество и просвещение сказали бы мне спасибо ». – Приятно было прочесть это письмо, но, признаюсь, минуту спустя мне показалось, что это юношеские мечты и слишком молодой жар, хотя и старика, и вряд ли может осуществиться. Нет, к несчастью, кажется, уже зло так велико, так далеко зашло, пагубная система прошедшего царствования успела уже пустить такие сильные корни, что отвратить это зло не могут никакие личные усилия и воля даже самого государя. Только внутреннее, страшное потрясение может искоренить его и обновить и возродить Россию, если на то есть благая воля Господа, и, кажется, нам не избежать этих страшных внутренних потрясений. Сегодня получил отесенька от Гилярова письмо отчаянное, в котором он высказывает все свои мрачные предчувствия и соображения и совершенную безнадежность отвратить грядущие бедствия. Он ожидает внутренних страшных возмущений, видит в народе недовольство; письмо его вполне выражает настоящую тягостную минуту, и мы хотим его сохранить.