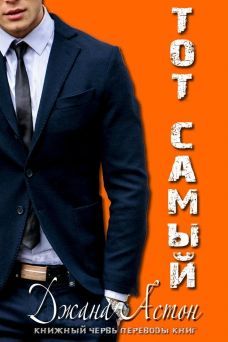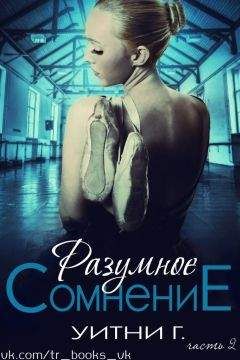Виктор Устьянцев - По ту сторону
Он догнал вторую группу и долго полз вместе с ней, пока его не заметил сержант Гордымов.
— Как ты сюда попал? — шепотом спросил он.
— Политрук разрешил.
— Врешь ведь. Ну да ладно, ничейную полосу мы уже прошли, отправлять тебя обратно нет смысла. Заметит фриц — всю обедню нам испортишь. На вот, держи, — Гордымов сунул ему наган. — Без команды не стрелять.
Они уже подползали к переднему краю немецкой обороны, уткнулись в колючую проволоку. Заграждение было в три кола, на проволоке развешаны пустые консервные банки, ветер то гудел в них, то вдруг завывал тонко и пронзительно, где-то банка с противным скрипом скреблась о проволоку. Было от этих банок шумновато, и все-таки первый щелчок ножниц прозвучал как выстрел, все невольно припали к земле. Прошло еще минуты две или три, пока кто-то перекусил другую нитку. Потом уже чаще — щелчок за щелчком — клацали не то ножницы, не то кусачки, но теперь не так громко. Наверное, и первый щелчок был не громче этих, только показался таким сильным, потому что первый…
Потом они ползли между траншеями и слышали то справа, то слева чуть приглушенную ветром гортанную немецкую речь. У самой опушки леса едва не наткнулись на часового — он караулил замаскированные в лесу танки.
Вообще говоря, можно было бы тихонько снять и этого часового. Но Володя уже понимал, почему разведчики не стали его брать. Те, что на самой передовой, мало что знают, дальше своего окопа, как правило, не ходят. А если зайти поглубже, можно и штабную птицу поймать. К тому же чуть поглубже в тыл — немец ходит без особой опаски.
А пока что ползи и запоминай, где у них что есть. Тут, значит, танки, а вон там, слева, батарея…
Они зашли глубоко, километров на восемь, потому что впереди мерцали огоньки деревни Тураево. По данным агентурной разведки, там и есть какой-то штаб. Теперь надо только выйти к дороге и ждать, авось кого-нибудь да понесет в этот штаб и ночью.
К дороге лучше всего подойти лощиной, но перед ней небольшой бугор, надо проверить, не посажена ли на нем огневая точка.
— Уж больно выгодное для нее место, — сказал Гордымов. — Ну-ка, Вася, проверь.
Один из разведчиков уполз вперед, остальные пока отдыхали: шутка ли, куда забрались, да еще добрую четверть пути — ползком. У Володи с непривычки саднило локти, да и на животе небось мозоли натер.
Немцы все-таки не догадались поставить на горе пулемет, и группа захвата, и левая группа прикрытия благополучно спустились в лощину. Правая группа прикрытия немного замешкалась. Ее-то и заметил этот фашист.
Сначала немец хотел удрать, но его увидела подошедшая к дороге левая группа, и кто-то очередью поверх головы заставил немца лечь. Однако тот не думал сдаваться, а сам открыл огонь по бугру. Тем временем группа захвата подошла к нему сзади…
К счастью, до деревни было довольно далеко, вероятно, несколько автоматных очередей никого не встревожили, и разведчики той же лощиной благополучно добрались до лесочка, в котором они уже были и знали, что там немцев нет. Четверо разведчиков тащили немца, а Володя шел за ними и нес автомат пленного. Группы прикрытия шли где-то спереди и сзади. До рассвета надо было успеть перейти линию фронта, разведчики торопились, и Володя едва поспевал за ними.
Вдруг он заметил, что пленный осторожно просовывает руку за пазуху. «Может, у него там наган есть?» — подумал Володя и хотел предупредить Гордымова, но не успел: немец вытянул руку и отбросил в сторону что-то белое. Володя нагнулся, поднял. Ага, пакет.
Володя хотел тут же отдать его Гордымову, но впереди послышался топот, должно быть, группа прикрытия на кого-то напоролась. Группа захвата круто повернула влево, и Володя сунул пакет себе за пазуху.
Вот этот-то падет и оказался самым ценным. Плененный фашист, как выяснилось, фельдъегерь, нес из штаба корпуса в дивизию важный боевой документ. Все это выяснилось позже, когда в нашем штабе изучили документ.
А пока политрук Гусельников строго предупредил Бажанова:
— Если еще раз уйдешь самовольно, из роты придется отчислить.
Вскоре и верно Володе пришлось расстаться с разведчиками: он был ранен в ногу, и его отправили в госпиталь, а после госпиталя — домой.
Опять за парту?
В доме по 2-й Советской, 4 все было по-старому: тот же гвалт в коридоре, перебранка на кухне, те же запахи щей и белья — каждый день у кого-то была стирка, и белье сушили прямо в кухне.
Матери дома не было. Но ключ лежал на месте — за бровкой двери. Володя вошел в комнату, снял шинель, осмотрелся. В комнате тоже все стояло на прежних местах. На гвоздике висел отцовский ремень. Володя потрогал его, вспомнил, улыбнулся. «Теперь, поди, и не посмеет ударить», — подумал он.
А вот этой фотографии в рамке на стене не было. Это они снимались всем классом в прошлом году. Какие еще маленькие были! Вот и Юрка Гаврилов, а вот Лешка Зайцев. Интересно, где они сейчас, неужели все еще учатся? Ну да, в шестом классе…
Потом он увидел на комоде стопку писем со штемпелями полевой почты, треугольничками. Это были его письма. И среди них два письма от отца. Володя прочитал их. Отец служил на Дальнем Востоке и все огорчался, что его не посылают на фронт.
«Понимаю, что мы тут тоже нужны, рядом япошки, они давно снюхались с немцами и в любое время могут ударить нам в спину. А все же стыдно тут сидеть, когда самый младший сын, еще совсем пацан, на фронте воюет…»
Вот и Николай об этом же писал, его с завода тоже не пускают на фронт…
На окне алюминиевая кастрюля, в ней три картошины в мундире. Наверное, мать Николаю оставила. Видать, живут голодно.
Володя развязал свой солдатский рюкзак, выложил на стол полторы буханки хлеба, банку тушеной говядины, еще банку американских консервов, сахар, мешочек с крупой, две ржавые селедки, фляжку — для Николая.
Сразу мучительно захотелось есть. Откровенно говоря, в дороге он питался впроголодь — экономил свой солдатский паек для матери. К матери у него вдруг проснулись такие нежные чувства, каких он никогда раньше не испытывал. Он ее просто видел каждый день и в то же время не замечал, как не замечаешь воздуха, которым дышишь. Он, конечно, любил мать, но любил как-то привычно, буднично. А вот сейчас, повзрослев и стосковавшись по ней, вспомнил и оценил все, что она для него сделала, испытывал к ней такую нежную благодарность, что ему стало, может быть, впервые по-настоящему стыдно перед ней и за все те огорчения, которые он ей доставил, и пролитые ею слезы, и за то, что бывал с ней неласков.
И когда Анастасия Тимофеевна, уже предупрежденная соседками, вбежала в комнату, он бросился к ней, приник головой к ее груди и долго стоял так, глотая подступивший к горлу тугой ком. А она гладила и гладила его стриженую голову и все повторяла одно и то же: