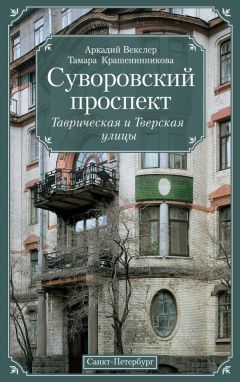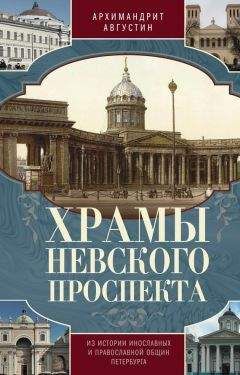Александр Николюкин - Розанов
Эту книгу, в основе которой лежит идея зерна и вырастающего из него дерева, идея «живого роста», Розанов считал определяющей для всего своего миросозерцания: «как из нас растет» и «как в нас заложено»[93]. В письме К. Н. Леонтьеву Розанов говорил, что книга «О понимании» «вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части — умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что счастье есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека), более полную во всех отношениях, интимную и общественную»[94].
Книга направлена против профессоров философии Московского университета, которые чтили лишь позитивизм. Сам автор видел слабые стороны своего труда, о которых позднее говорил: «Мне надо было вышибить из рук, из речи, из „умозаключений“ своих противников те аргументы, которыми они фехтовали. „Надо было полемизировать не с Парменидом, а с Михайловским“. Конечно — это слабая сторона книги»[95].
Когда нынешняя критика утверждает, что важно не литературное произведение само по себе, а его восприятие читателем и что вообще реально существует лишь восприятие, — это не вызывает категорического протеста или недоумения. Иное дело столетие назад. Когда молодой Розанов выдвинул категорию «понимание», связующую человека с наукой как системой знаний, то «все смеялись» над таким «трюизмом». Науковедческий аспект книги не заинтересовал современников.
Рецензент «Вестника Европы» ядовито заметил, что автор разумеет под «пониманием» совсем не то, что принято разуметь под этим словом: «Для него это не психологический процесс, а какая-то новая всеобъемлющая наука, призванная восполнить собою недостатки и пробелы существующих знаний. Для нас этот „полный орган разума“, выдуманный г. Розановым, остается неразрешимою загадкою» [96].
И только в сочувственно написанной рецензии Н. Н. Страхова признавалась «законность задачи»[97], которой посвящена книга «О понимании». Однако вскоре и сам Розанов признал, что его книгу никто не читает, потому что она, особенно в самом начале, «чрезвычайно дурна, тяжелым языком написана; и вообще не ясна, плохо изложена, неосторожно»[98].
Провал первой книги (часть тиража была возвращена автору, а другая часть продана на Сухаревке на обертку для «серии современных романов») изменил всю судьбу Розанова. Много лет спустя он заметил: «Встреть книга какой-ни-будь привет — я бы на всю жизнь остался „философом“. Но книга ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было „не то“. То есть это не настоящее мое»[99].
Неудача с книгой почти что совпала с окончательным разрывом с Сусловой. К тому же служба учителем географии и истории в брянской прогимназии стала казаться ему неким сумасшествием. Натура Василия Васильевича не могла переносить рутину учительской работы, «Бесконечно была трудная служба, и я почти ясно чувствовал, что у меня „творится что-то неладное“ (надвигающееся или угрожающее помешательство, — и нравственное, и даже умственное) от „учительства“, в котором кроме „милых физиономий“ и „милых душ“ ученических все было отвратительно, чуждо, несносно, мучительно в высшей степени. Форма: а я бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным, и со всяким „долгом“ мне в тайне души хотелось устроить „каверзу“, „водевиль“ (кроме трагического долга)». Учитель отрицал Розанова, а Розанов отрицал учителя. Это взаимное разрушение представляло собой «что-то адское».
Учительство не могло стать призванием человека, больше всего не любившего упорядоченность повседневности: в 9 часов утра «стою на молитве», «беру классный журнал», спрашиваю «реки, впадающие в Волгу», потом «систему великих озер Северной Америки, все американские штаты с городами», «множество свиней в Чикаго», а затем короли и папы, полководцы и мирные договоры, «на какой реке была битва», «какие слова сказал при пирамидах Наполеон» и в довершение всего «к нам едет ревизор».
Вслед за книгой «О понимании» Розанов собирался писать такую же большую по величине под названием «О потенциальности и роли ее в мире физическом и человеческом». Потенция — это незримая, неосуществленная форма около зримой, реальной. Мир — лишь частица «потенциального мира», который и есть настоящий предмет философии и науки. «Изучение переходов из потенциального мира в реальный, законов этого перехода и условий этого перехода, вообще всего, что в стадии перехода проявляется, наполняло мою мысль и воображение».
Замыслу не суждено было воплотиться. Он остался «в потенции». Новые заботы захватили Василия Васильевича, перешедшего на службу в елецкую гимназию.
Глава четвертая «МОЯ НРАВСТВЕННАЯ РОДИНА»
(Елец)
Нижний Новгород, где ему открылся Достоевский, Розанов назвал своей духовной родиной. То, что произошло в Ельце, дало писателю право сказать об этом городе: «Моя нравственная родина».
В Энциклопедическом словаре Брокгауза говорится, что Елец — один из лучших русских уездных городов. И действительно, Елец до сих пор производит впечатление скорее маленького городка областного значения, чем райцентра. Он раскинулся на левом холмистом берегу реки Сосна, славен своими кружевами и добрыми людьми.
Поначалу жизнь в Ельце складывалась для Розанова почти трагически. Он погибал, чувствовал себя никому не нужным, был озлоблен. Ощущение было непередаваемое: «Я весь гибну, может быть, в разврате, в картах, вернее же в какой-то жалкой уездной пыли, написав лишь свое „О понимании“, над которым все смеялись…» (382–383).
Прожив год в таких условиях, он стал подумывать о переезде в Петербург, куда его влекла возможность литературной деятельности и честолюбивая мечта стать «настоящим устроителем ведомства школ». Началась переписка с Н. Н. Страховым, которому он написал о своем желании, но в ответ получил суровую отповедь: «Вы хотите оставить Елец, а Елец я воображаю чем-то вроде Белгорода, в котором родился. Благословенные места, где так хороши и солнце, и воздух, и деревья. И Вы хотите в Петербург, в котором я живу с 1844 года — и до сих пор не могу привыкнуть к этой гадости, и к этим людям, и к этой природе. И что Вы будете здесь делать? Здесь учителя дают по пяти, по шести уроков в сутки. Настоящее Ваше место — сотрудничать в журналах, если бы Вы это умели сделать; но Вы едва ли справитесь и с собою, и с журналистами» [100].