Рудольф Баландин - Дали
Однако страсть, разбуженную мной в этой юной женщине, не следует приписывать моему донжуанскому дару — должен сказать, что между нами, если говорить об эротике, за все пять лет так ничего и не произошло, кроме того, что случилось в первую встречу: мы целовались, глядели друг другу в глаза, я прикасался к ее груди — и более ничего. Думаю, что ощущение своей приниженности, испытанное ею в тот день из-за насморка, и было главной причиной неудовлетворенности, которая неотступно ее терзала, и страстного желания во что бы то ни стало возвыситься в моих глазах. Но я вел себя точно так же, как в первый день, если не сдержаннее (я мастерски изображаю холодность — это мое испытанное оружие). Я посыпал солью ее раны, любовь ее разгоралась (тогда как удовлетворенная любовь гаснет) и приближалась к опасной черте, за которой маячил нервный срыв, если не попытка самоубийства».
Он вновь упоминает насморк, из-за которого девушка сочла себя униженной. Трудно в это поверить. Значительно более вероятны ее терзания из-за того, что он пренебрег ею, когда она со всей откровенностью желала ему отдаться. Он нанес страшный удар по ее самолюбию.
Причина может быть физиологической (о ней мы упоминали), а также психологической. Была ли это боязнь венерического заболевания? Не обязательно. Есть и другие опасения. Например, ответственность за последствия половой близости. К тому же у него мог быть страх оказаться «несостоятельным» в самый ответственный момент и поэтому стать объектом насмешки, презрения. Для него это стало бы непереносимым страданием.
Он предпочел в воспоминаниях представить себя хладнокровным эгоистом, увлеченным сугубо эстетическими экспериментами. Есть и более убедительное объяснение: он жаждал любви во всей ее полноте, а не просто удовлетворения похоти.
«Мы оба знали, что я ее не люблю; я знал, что она знает, что я ее не люблю, и она знала, что я знаю, что она знает, что я ее не люблю. Я действительно не любил — и тем хранил свое одиночество. С полной невозмутимостью я ставил эмоциональный опыт на прелестном живом существе, и моя холодность сообщала эксперименту чистоту и, следовательно, исключительную эстетическую ценность.
Я знал, что любовь, какую мне суждено испытать, будет совсем иной, что она захватит и истребит все мое существо, перемелет в пыль все чувства, и вздумай я тогда экспериментировать с приручением и унижением, меня ждет неминуемый крах. А пока я был уверен, что моя подруга будет и впредь служить мне. Я и тогда знал, что истинная любовь — это рана, а не стрела, и уже примеривал к себе муку святого Себастьяна, зерна которой, зароненные в мое тело, рвались прорасти».
Сальвадор Дали не был циничным искателем половых удовольствий в примитивном сексе. В любви он стремился к высшему. Об этом следует помнить, осмысливая его картины, посвященные любви и сексу. Их порой чрезмерная сложность определяется в немалой степени клубком противоречивых чувств и мыслей, которые у него были связаны с этими проблемами.
К тому времени он с удовольствием заметил, что становится местной знаменитостью не только благодаря внешним признакам. Были отмечены его успехи в живописи, цепкий ум. По его словам, «первые проблески славы воспламенили воображение моей невесты, чем я не преминул воспользоваться, дабы укрепить свою деспотическую власть над всем ее существом. Я возжаждал истребить в ней все привязанности, кроме одной — ко мне, единственнейшему и наидостойнейшему, воспетому журналистами, увенчанному славой. В жизни ее не должно было остаться места ни для подруг, ни для знакомых. Я предписал ей затворничество и вечное ожидание свиданий, которые назначал все реже и реже».
Так ли все было? Сальвадор Дали писал это под сильным влиянием психоанализа и относился к себе прошлому примерно так, как психиатр к своему пациенту. При этом он мог преувеличивать и увлекаться теоретическими изысками. И все-таки его рассказ внушает доверие.
Он признается, что был ревнив. Это чувство возникало у него не потому, что он ее любил и не терпел соперников. Он любил себя и того же требовал от нее. Если она смела отозваться о ком-либо с теплотой или даже упомянуть о своем новом знакомом, как он тотчас обрушивал на них всю мощь своего сарказма, выставлял их жалкими пигмеями, всячески унижал, тем самым возвеличивая себя. Она охотно соглашалась с ним (быть может, нарочно старалась пробудить в нем ревность, надеясь, что так он крепче привяжется к ней).
«Укрепляя деспотизм, — писал он, — я сурово карал за малейшее своеволие, так что не раз бедняга проливала горькие слезы. При этом я держался с ней так высокомерно и холодно, что не раз доводил до отчаяния и даже до мыслей о самоубийстве. Она устала надеяться на любовь и была готова удовольствоваться простым расположением, за которое цеплялась, как утопающий за соломинку. Но наши получасовые прогулки становились все реже — всему приходит конец! Передо мною, маня славой, уже реял храм искусств — Мадридская Академия Художеств. И я жестоко напоминал невесте: «Остался год! Всего только год!» И бедняга целые дни прихорашивалась ради краткого свидания. К тому времени она избавилась от простуд и так светилась здоровьем, что переносить это не было никакой возможности — приходилось доводить ее до слез».
Почему он не мог спокойно видеть ее молодое здоровое тело? Потому что боролся с вожделением, желанием овладеть ею. Но жар его чувств тотчас охлаждал рассудок. Он издевался не только над ней, но и над самим собой, а за это мстил ей — своей жертве и мучительнице.
«Обычно я брал с собой на прогулки очередной номер «А'Эспри Нуво». Склонив голову, она внимательно разглядывала картины кубистов. В ту пору надо мной властвовал категорический императив мистицизма, свойственный Хуану Грису. По временам я изрекал загадочные фразы вроде этой: «Слава блестит, колет и режет. Она похожа на ножницы с раскрытым клювом». Невеста пыталась запоминать мои изречения, хотя смысла не улавливала: «Ты что-то говорил вчера про ножницы и клюв…»
«А знаешь, — извещал я ее на обратном пути, — из Мадрида я не буду писать тебе писем». И точно знал, что через десять шагов она всхлипнет. Ни разу мне не случилось ошибиться. Утешая, я пылко целовал ее, и слезы, упругие, как лесные орешки, обжигали мне губы. Тем временем перед моим мысленным взором реяла слава — колкая и острая, как разверстый клюв ножниц».
Судя по всему, она ему сильно, порой чрезмерно нравилась, притягивала к себе. Была ли она хороша собой, трудно сказать. Скорее всего — да. В своих фантазиях он обладал ею. Возможно, он изобразил ее обнаженной на фоне морского залива на картине 1923 года. Юная веселая девушка с ярким румянцем на щеках возлежит на постели, заложив руки за голову. Крепкие округлые груди, загорелые ноги и руки. Над ней птичка на ветке. Перед ней на столике ваза с фруктами, торчит бутылка с красным вином. За ней на море два паруса. Белый отсвет от одного из них, подобный лезвию кинжала, нацелен ей между ног.
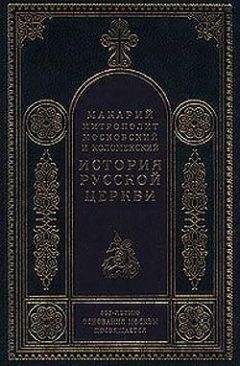

![Алексей Карпов - Владимир Святой [3-е издание]](/uploads/posts/books/45802/45802.jpg)