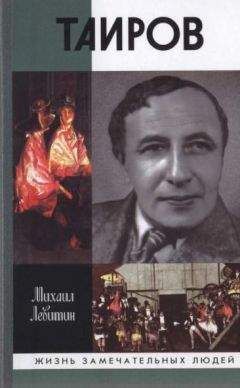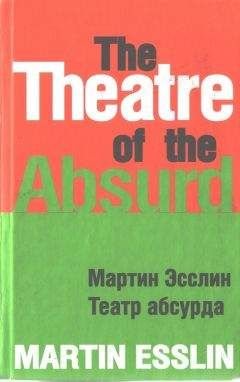Владимир Лакшин - Театральное эхо
«Воспоминания об этом знаменитом ресторане, – пишет Образцов, – еще жили в памяти старых москвичей. Правда, в душном фойе не было ни Москвы-реки, ни сада с цветущей черемухой, ни соловьев, ни рассветов над башнями Новодевичьего монастыря, но зато все остальное было: и еда, и водка, и самовар с чаем, и “русский хор”, которым дирижировал, как и раньше, сын Крынкина, Александр Сергеевич, артист Музыкальной студии. Дирижировал он хорошо, потому что по-настоящему любил и знал русскую песню».
На знакомстве Крынкина с Образцовым я остановился потому, что впоследствии это привело к важному повороту в судьбе Александра Сергеевича. Когда у Образцова возник свой театр на площади Маяковского, он пригласил Крынкина работать в нем по музыкальной части. Вокальные номера в знаменитых спектаклях театра рождались с его участием. Крынкин громко восхищался талантом Серёни, а когда артисты и артистки, которым предстояло говорить и петь за кукол, распевались перед спектаклем, приходил временами в такой восторг от удачно исполненного вокализа, что не мог сдержать своих чувств и со всего размаха хлопал исполнителей по плечу, рискуя нанести им увечье. Но за его живую горячность и искреннее бескорыстное увлечение искусством ему прощалось все.
Сожалею, что я узнал Крынкина слишком поздно, но все же однажды побывал у него в гостях в Леонтьевском переулке, и это свое впечатление вряд ли когда забуду.
То не было постоянное его жилье, но комната, которую он снимал для своих музыкальных занятий. Я знал, что его жена Нина Александровна Арнинг постоянно жила в другой квартире, близ Арбата, в окружении полотен знаменитых художников прошлого, доставшихся ей по наследству. Нимало не ссорясь с дражайшей своей половиной, Крынкин предпочитал по большей части жить отдельно, сознавая, что так удобнее для них обоих: жить с Крынкиным означало жить рядом с человеком-хором, а это, даже при большом взаимном чувстве, не всякий мог бы вынести. В этой холостяцкой норе я и навестил как-то Крынкина.
Существует лучше всех описанная Гоголем таинственная связь между жильем и его владельцем, не менее крепкая, быть может, чем между человеком и его одеждой. Каждый находит себе обиталище по вкусу или пересоздает его в согласии со своим воображением. Комната, какую занимал Крынкин, была ему в пору, как сшитый по ноге сапог. Здесь он давал уроки пения и сам безвозбранно наслаждался музыкой.
Дом в тихом переулке, в который он меня привел, с фасада выглядел самым заурядным, надстроенным и перестроенным московским домом минувшего века. Но комната Крынкина ошеломляла с первого взгляда. Еще входя в дверь из обычного коммунального коридора, я обратил внимание на стены: они напоминали своей толщиной средневековый замок. Комната была довольно просторна, но половину ее занимал большой рояль. И хотя на улице был яркий полдень, углы тонули в полумраке. Единственное окно с широким, как стол, подоконником выходило в переулок, но явно существовало не для того, чтобы из него выглядывать, а чтобы за ним прятаться. В боковинах стены у окна были видны массивные петли для внутренних железных ставен.
На закопченных, а скорее всего давно не беленных стенах плохо различимые в дневном сумраке висели две или три картины в почтенных золотых рамах. Крынкин бегло назвал живописцев, поразив звонкостью имен: кажется, это были Куинджи и Рерих. Он пригласил меня сесть в потертое кожаное кресло у письменного стола, вплотную пододвинутого к стене. Стол был тоже просторен, как городская площадь, и в одном конце его хаотической грудой громоздились ноты, книги и клавиры, другая же сторона казалась сравнительно пустой: расстеленная старая газета выполняла должность скатерти с неубранными остатками завтрака на ней. Поймав мой недоуменный взгляд, Крынкин пояснил:
– Видишь ли, я тут перекусываю и всегда оставляю мышкам… Это удивительно музыкальные мыши. Сначала они меня побаивались, а теперь запросто приходят, даже когда я еще завтракаю, и лакомятся прямо на столе – две такие беленькие, обаятельные, а глаза как клюковки… Бывает, я сажусь за рояль, и они выходят прямо под музыку.
Желая немедленно продемонстрировать мне это чудо, он откинул крышку рояля, взял несколько тихих мелодичных аккордов, но мышки не появились, и, несколько сконфуженный сорвавшимся эффектом, он стал располагать в том же углу стола, откуда их ждал, угощение для меня. Нарезая на газете сыр и колбасу, он заодно рассказывал историю своего жилища.
– Догадайся, куда я тебя привел? Лермонтова любишь? Кто ж его не любит! – воскликнул он за меня, не дожидаясь ответа, и с пафосом продекламировал: «Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет…» Так вот ты, позволю тебе объявить, в нумизматическом кабинете Мартынова. Да-да, того самого, Николая Соломоновича, будь он неладен… Отец Мартынова богатейшим откупщиком был, это его дом. Кажется, и Лермонтов сюда в юности хаживал, они ведь приятелями звались, он и этот… Мартыш. По мне, так никакой обиды в этом прозвище, а тот, видишь ли, оскорбился, защищал честь… Дело понятное, да ведь это только в горячке кажется, что неважно, в кого целишься…
Крынкин присел за рояль, взял несколько аккордов и запел:
Не плачь, дитя, не плачь напрасно…
– Великий «Демон»! – воскликнул он, оборвав на полутакте. – Зацепило? То-то! Антон Григорьевич – гений! И Михаил Юрьевич – гений! Не спорь, не услышу, – прибавил он, хоть я и не собирался возражать ему. Развернувшись ко мне на черном винтовом табурете, Крынкин досказывал: – После того, что в Пятигорске случилось, Мартынова церковному покаянию подвергли, да он и сам, видно, мучился, тосковал, оставил Кавказ и заперся в своем московском доме. В свет он уже не выезжал, никого не хотел видеть, и единственное, чем еще тешился, представь, – нумизматикой. Монеты старинные собирал, медали, масонские знаки. Вот и эту комнату с толстенными стенами, настоящий каменный шкаф, для своей коллекции приспособил… А выходит, для меня старался. Прежде я перелетал с квартиры на квартиру – как возьмешь верхнее до, соседи за милицией бегут. Пока-то нашел, что нужно. Через эти стены ни одна нота не убежит… А Мартынов у меня в принудительном порядке «Демона» слушает…
Он снова крутанулся к роялю, бросил по клавишам роскошное глиссандо и громко, зычно запел:
На возду-шном оке-ане…
Я слушал его, подавленный происходящим. Всё спуталось и пошло хороводом в моей голове: нумизматический кабинет, мышки на столе, убийца поэта, гений Антон Григорьевич, Куинджи и Рерих на закопченных стенах… И этот неостановимый поток восхищения, всякий раз неведомо чем – музыкой, Лермонтовым, дружеской встречей, ожиданием соблазнительного, на скорую руку, мужского застолья, а скорее всего, просто непредугаданным весельем, безрасчетной энергией жизни.