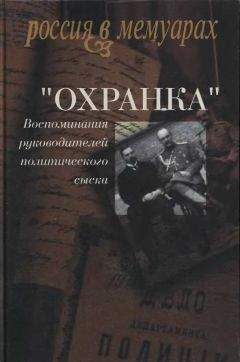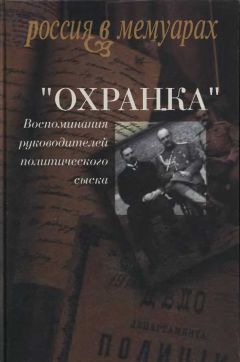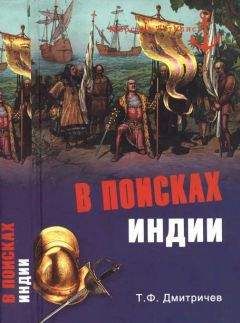Александр Герасимов - «Охранка». Воспоминания руководителей охранных отделений. Том 2
«Крошка» ушла и на прощанье, пожелав мне всего доброго, прибавила:
— Как случайно мы с вами встретились! Если кому-нибудь это рассказать, то это показалось бы невероятным!
Ночью ко мне пришел Будаков для доклада. Он был несколько навеселе от выпитой бутылки вина во время наблюдения в «Северной» за «Крошкой». По его словам, она появилась в зале после полуночи, разодетая, красивая и веселая, подошла к актрисе «Альпийскому стрелку» и села за ее столик. Вскоре к ним подошел толстяк и тоже уселся [4]. Посмеялись и ушли в отдельный кабинет. Через час они вышли из кафешантана, филеры пошли наблюдать за толстяком, а Будаков — за «Крошкой».
На другой день «Крошка» уехала из Одессы, и больше я ее никогда не видел. Слышал, что в Петрограде она была у директора Департамента полиции, но как протекла ее дальнейшая разведывательная работа и жизнь, я не знаю.
Теперь, в беженстве, как-то вечером после тяжелой работы на заводе Ситроена, я встретился со своими земляками в бистро. Вспоминая прошлое, я рассказал своим собеседникам о «Крошке». На это один из присутствующих, проигравший недавно все, что имел, в рулетку, сказал:
— Не будет ли ваша «Крошка» дамой, которую в Монте-Карло называли «Австриячкою»? Она тоже хорошо говорила по-русски и обращала на себя внимание своей ангельской красотою и недоступностью. Тратила она и проигрывала громадные деньги богатого американца, с которым и уехала в Бразилию…
— Быть может, и она — с разбогатевшим мужем или влюбленным в нее другом!
Глава 13
Письмо
При Императоре Александре III Министерству внутренних дел в интересах охранения порядка и безопасности в империи было разрешено пользоваться без огласки перлюстрацией, т. е. секретным просмотром писем и почтовых пакетов, внушающих подозрение в их противозаконности, в смысле военного шпионажа или революционной деятельности.
В крупных городах империи были учреждены с этой целью при управлении почтово-телеграфных округов особые отделы «иностранной цензуры», которым и было вменено ведать перлюстрацией. В каждом таком учреждении состояло на службе несколько человек, знающих до восьми языков. По большей части эти чиновники-лингвисты были иностранцами по происхождению, но русскими подданными; среди них выделялись немцы, зачастую говорившие по-русски с акцентом, но отличные чиновники и специалисты этого дела.
Главная работа производилась по адресам и спискам Департамента полиции, но многолетняя практика выработала у цензоров такой опыт, чтобы не сказать чутье, что, основываясь на каких-то никому другому не уловимых признаках письма или пакета, они обнаруживали массу переписок, в которой оказывался шифр, химический текст или условные знаки и выражения. Черта под именем, какой-нибудь бледный знак на конверте, особая форма букв на адресе или адрес «для», точка или крестик и т. п. были достаточны, чтобы остановить их внимание, причем ошибались они чрезвычайно редко. Работа эта была срочная, непрерывная и трудная, так как требовала сосредоточенного внимания, причем проходили иногда целые недели, не дававшие ценного материала.
Когда какое-нибудь письмо было заподозрено, оно вскрывалось специальной машинкой или на пару, затем с него снималась копия, и оно вновь заклеивалось, так что адресат, получая его, и не подозревал, что содержимое письма уже известно власти. Письма, в которых обнаруживались признаки невидимого простым глазом текста, рассматривались особо тщательно; в некоторых случаях с них снимались фотографии, которые при помощи особого аппарата увеличивались, и таким образом удавалось прочесть написанное химическим способом и отправлять затем письмо по назначению. При этом бывали случаи, когда тайна оказывалась просто интимного характера перепиской. Большинство же переписок с химическим текстом приходилось подвергать реактиву, и поэтому по назначению они не отправлялись.
Простейший способ невидимого текста — это написать его простым лимонным соком, молоком и даже слюной, а для того чтобы его проявить, надо нагреть бумагу до начала ее обугливания или смазать полуторапроцентным раствором хлористой жидкости.
В позднейшее время как шпионы, так и революционеры стали применять сложные химические составы, и текст приходилось подвергать проявлению при помощи особых реактивов.
Тайная перлюстрация существует, вероятно, и в некоторых других государствах, а во время Великой войны она производилась официально и на конвертах ставился особый штемпель, удостоверяющий, что письмо просмотрено в военной цензуре.
Сведения, получаемые перлюстрацией, в отличие от так называемых «агентурных», т. е. получаемых от секретных сотрудников, носили название «секретных сведений», и ими пользовались с особою осмотрительностью и без ссылки на источник. Переписка лица, уже привлеченного к судебной ответственности, задерживалась официально по сношению судебной власти с почтово-телеграфными конторами.
Ныне в Советской России просматривается вся частная корреспонденция повсеместно, во всех почтовых конторах и отделениях. Зачастую одно и то же письмо вскрывается и заклеивается по нескольку раз, а часто и вовсе не доходит по назначению.
Из более интересных писем, присланных мне в охранное отделение из «бюро иностранной цензуры», припоминается письмо с датой «Июнь месяц 1911 года», адресованное из Финляндии в Москву, в кооператив, на имя В. В письме оказался химический текст, зашифрованный дробью и настолько сложный, что пришлось телефонировать в Департамент полиции, прося прислать из Петербурга в Москву чиновника-специалиста Зыбина.
Зыбин прибыл на другой же день. Высокий худощавый брюнет лет сорока с длинными, разделенными пробором волосами, совершенно желтым цветом лица и живым пристальным взглядом. Он был фанатиком, чтобы не сказать маньяком, своего дела. Простые шифры он разбирал с первого взгляда, зато более сложные приводили его в состояние, подобное аффекту, которое длилось, пока ему не удавалось расшифровать документ.
Зыбин, явившись ко мне и едва поздоровавшись, тотчас спросил о письме. Ему подали копию, но она его не удовлетворила. На ответ, что подлинник уже отправлен обратно на почтовую контору, он, не внимая ничьим словам, бросился без шапки, как был, на улицу с явным намерением отправиться на почту. Выход его был так стремителен, что, только когда он уже садился на извозчика, удалось запыхавшемуся курьеру остановить его, буквально схватив за рукав, и объяснить, что письмо уже вытребовано с почты по телефону и находится на пути в отделение. Зыбин вернулся и, схватив копию, начал сосредоточенно рассматривать тот ряд дробей, под которыми для меня скрывалась, по всей вероятности, серьезная работа революционеров, а для этого оригинала хитроумная загадка, возбуждающая его пытливость. Задав Зыбину несколько вопросов, на которые он почти что не ответил, я оставил его в своем кабинете и отправился с докладом к градоначальнику. Возвращаюсь через часа полтора и застаю Зыбина сидящим за моим столом, в моем кресле, теперь уже с подлинником письма в одной руке и карандашом — в другой, которым он беспощадно расписывал какими-то знаками и фигурами обложки разложенных на столе моих дел. Он не заметил моего прихода, и мне пришлось дважды окликнуть его, прежде чем он поднял на меня блуждающий взор…